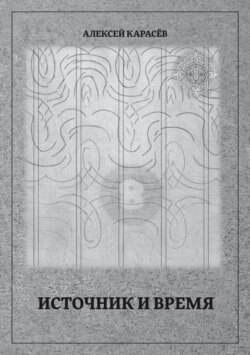Читать книгу Источник и время - - Страница 11
Часть третья
Тунгусский рубеж
Избыток и мусорный ветер. Часть первая
Оглавление1
Есть ещё один момент, весьма характерный для ощущения ситуации. Он не столько морален, сколько математичен, даже арифметичен. Но при этом он всё равно сводится к началам духа, хотя и по довольно сложной траектории, которая порой и не проступает очевидно, а лишь взывает к осмотрительности – как к последней возможности, когда уже «сокрушён в победе, набирая высоту». Эта неочевидность и является главенствующей в утверждение – порождением невозможности жить всем и сразу и сопутствующей ей, даже симбиотической, беспечности. И если первое вроде как в порядке вещей, то второе – это уж совсем никуда не годится. Беспечность, как было замечено выше, убивает. Беспечность не безобидна и не бескорыстна, не кротка и не смиренна, – потому как не бывает сама по себе. Беспечность замешана на мертвечине и определяется действием трупного яда, обильно выделяемого как естественным вроде бы путём, так уже и синтезируемого. И потенциал этой химической промышленности велик. – Благо, что не всеподавляющ. – Хотелось бы верить. Посему момент этот именно технический, вроде спасательного круга, который надо просто схватить, не особо рассуждая, – а там видно будет.
«Математичность» же этого явления определяется простейшим, казалось бы, правилом: закрытием скобок и вынесением знака «минус» за их пределы, при котором в оперативном поле остаются либо сплошные плюсы, в виде неких прогрессивных устремлений, порой совершенно необозримые, либо оттеняющие минусы для вящей правдоподобности. В общем, по желанию и необходимости. И протяжённость эта может быть столь велика, что заглянуть за её пределы нет почти никакой возможности. Стоит заметить, что физической возможности, пожалуй, никогда и не будет, так как физика всегда ограничена, даже непосредственным образом, то есть самой собой. Если угодно – она детерминантна, то есть не абсолютна. – «И об чём разговор». Выколи глаза, проткни уши – и никакой информации; а сломал голову – и никакого сожаления по этому поводу. Всё ущербно в этом желании увидеть и потрогать. – Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке. Ни дать ни взять. Из грязи в князи – из жидов да в рай. – Вот такие вельможные паны и вот такие янкели.
Так вот, о скобках и плюсах, и даже о тех же самых скобках и минусах… Чувствуете слабину? Ощущаете всю шаткость всего? Ежели всего лишь скобки раскрыть – и с точностью до наоборот. И ничего по сути не изменится. Просто обретёт себя и станет видимым. – Но не изменится, ежели ты отсюда и обозначен. Не для жизни и делается. – Для удобства. Обозначение условно и правда не обозначается. – Обозначается ложь, пытающаяся выстроить себя из себя же, обрести знаковый характер – знаковость и условные обозначения – вынося за скобки и стремясь определить то, что безусловно, сокрушая и предавая. – Для себя, конечно. – А то как же себя слагать и строить?.. Так что важнее: создать или сохранить? – Вот увидите: будет поиск компромиссов, дабы означить, определить своё положение и себя, силясь утвердиться и утвердить – то есть обозначить вновь. И тем самым лишить себя всего – не обозначенного никак. – То есть самой возможности жить. – Те же скобки, дабы выдать мёртвое за живое, вынося мёртвое за пределы и обозначая, чтобы дать пищу и выдать существующее за безусловное… Так что важнее: сохранить или создать? ежели без создания не можешь, а без сохранения обречён?
Был, кстати, математик, который попытался убрать это положение из своего научного багажа и жить… под седлом, в узде, но без него[3]… Плохо кончил – сошёл с ума… А не был бы математиком – не сошёл бы. – Делов-то… Но это уже слишком далёкие вещи.
Как бы то ни было, а наряду с непосредственной потребностью в правде, дабы быть правдоподобной, ложь нуждается и в обозначениях, и в скобках, чтобы, играя ими – непременно по правилам, – оправдать себя, исходя непременно из благих намерений и используя всё хорошее. Страшные дела делают, в общем-то, хорошие люди, означенные и заключённые в означенные пределы. И остаётся только догадываться, что будет, когда скобки раскроются. – Не хотелось бы так удивляться. Так что будем осмотрительны, дабы иметь всё – не обозначенное никак, – и жить этим как не возможным, но достижимым. Попытаемся ухватиться – а там видно будет.
С некоторых пор Осмоловский стал замечать, что ежели человек по каким-то причинам начал помышлять и даже сопротивляться вырождению, то у него начинает совершенно определённо портиться характер. И наоборот: если характер совсем даже не портится, то человек, глядишь, всё более подвержен этому вырождению. Он понимал, что если это и не бред, то какая-то непременная хвороба, даже инфекция, лекарство от которой есть и видимо, но не доступно. Такое положение его озадачивало и удручало, но по большому счёту ничего поделать с этим он не мог. Потому-то он предпочитал быть в одиночестве, причём совершенно осознанно. – «Такова жизнь, таковы мы…»
Как было отмечено ранее, Осмоловский был человеком не значимым; и для нашего случая это, пожалуй, стоит записать в актив.
И, наконец, третий момент, который необходимо отметить. – Осмоловский был выпускником «тридцатки» – матшколы – и имел «безусловную пятёрку» по профильной дисциплине. Мало того – он был выпускником факультета прикладной математики и даже некоторое время аспирантом и «молодым учёным с публикациями», едва-едва, практически формально, не дошедшим до учёной степени… Но это вдруг кончилось. Подробности пусть останутся за пределами, но сам факт весьма примечателен. Математик – это навсегда, причём без иронии, – в самом хорошем смысле этого слова, «если, конечно, он не математик-профессионал. – Пусть хотя бы ещё и физиком будет, а лучше – химиком». Наверное, у Осмоловского это не получилось и «пришлось расстаться. – К тому же – я всё-таки прикладной».
В общем, скобки и знаки – это по его части. С другой стороны: «стоило учиться, чтобы в столь зрелом возрасте обратиться к начальной школе». Думается, ради этого и стоило, дабы вослед хорошо забытому Кузанцу обмолвиться об учёном незнании и «очередных достижениях в этом деле…».
Чтобы ввести повествование в надлежащее русло, следует вернуться на некоторое время назад – туда, где, собственно, и остались Чипизубов с Осмоловским, – в перспективу Летнего Камня и массив тунгусской тайги…
…Чуть далее и вглубь по берегу находился схрон, из которого Чипизубов достал резиновую лодку. Наладив снаряжение, путники вышли вниз по реке.
Осень выдалась сухой и достаточно тёплой для здешних широт. Уже практически не было комаров и мошки, вытесненных ясными утренниками. Днём же температура достигала вполне комфортных значений, а солнце делало общую картину и вовсе благоприятной.
Зелёно-жёлтая тайга подступала к берегам – то непосредственно, то несколько отдаляясь, нависая с обрывов и стелясь с пологих возвышенностей. Обрывы обнажали складки и слои, вскрывая время и представляя его в единстве – на раз давая возможность прожить всем сразу – то зыбко и недолго, то определённо и зримо. – Пусть опосредованно, через свидетельство, но масштабно и даже дерзко – изнутри стратифицированной временной толщи, очевидной и узнаваемой. И терялся человек в тихом восторге и сопричастности, безмолвно собирая точащуюся под вековым давлением правду, чтобы, напитавшись ею, изжить страх, его слепоту, заставляющую пригибаться, прятаться и прятать… А здесь – вроде не от кого.
Они двигались, выбравшись почти на середину потока. В два же часа пополудни направили лодку к правому берегу и, чуть пройдя вдоль, выбрали место для стоянки. Сверху стекал ручей, более даже похожий на простой сток, так как не имел чёткого русла, – а посему довольно широкий, мелкий и спокойный. Осмоловский вытащил лодку и направился в прибрежный лес за дровами, а Чипизубов остался близ воды, осматриваясь и определяя место для огня.
Когда вода в чайнике закипела, Чипизубов бросил в неё щепотку заварки, сдобрив предварительно несколькими листами кипрея – «для местного колорита, что всегда под рукой». Когда же чай задымился в кружках, движение почти прекратилось – время взяло паузу. – Как говаривал Чипизубов: и эти синкопы не чужды контрапунктам…
Через сорок минут движение было продолжено – теперь уже до вечера, до поздних сумерек, до первого призыва к ночлегу.
– Это тебе на память, – Чипизубов протянул Осмоловскому продолговатый камень. – Конофитон. Говорят, свидетель давних и дивных времён – от живого до окаменевшего…
Ни единой живой человеческой души не встретилось им в этот день.
Всё дышало: не в повседневной, потребляющей, основе, дробящейся и множественной, но единой и общной; не делящейся, а изначальной – что прежде всего, а не в результате чего-то. Это не предполагало даже малейшего доминирования, даже намёка на вероятность его. Даже безобидного повседневного слова о себе, желания и потребности. – Было всё, чтобы жить. – От избытка, а не по недостатку, от свершения, а не от возможностей.
Посему – большей частью они пребывали в молчании, следуя той простой мысли, что молчание – тоже слово, только услышанное или не сказанное вслух. – Убережённое от мерзости запустения и большого скопления людей, его, слова, свободы и соответствующей этому – не к месту будет помянуто – инфраструктуры. Они об этом не думали. – Не сейчас. Потом… Как-нибудь…
Когда сумерки их настигли, путники опять взяли ближе к берегу и пошли вдоль. Причалили уже затемно и, благо розжиг был подготовлен заранее, развели быстрый костёр со всеми положенными месту действиями.
…Одинокий огонь в обширных исполненных пустотах не нарушал ничего. По малости своей он не мог наполнить и согреть это пространство, не мог осветить путь и сколь-нибудь определённо рассеять наступившую сокрывающую тьму. Он даже, в общем-то, не мог никого позвать и предложить передышку на этом малом месте. – Лишь быть яркой точкой для ночных обитателей близкой воды и окружающего леса, коим, наверное, он был не особо и нужен. Но всё же он был приметой. – Приметой человека, его присутствия и его восходящей жизни. И всё же, наверное, обращался и призывал. И ежели бы кто-то был рядом, то непременно отметил бы это про себя, так как одним своим появлением здесь он напоминал о человеке, о его сродстве и стремлении, о сообразующейся с окружающим миром жизни. – Призывал если не подойти, то остановиться где-нибудь поблизости и проделать всё то же самое, подтвердив и утвердив увиденное и воспринятое. – И быть рядом.
И одним своим образом, даже не помышляя о том, отмести нелепое и безобразное: быть нельзя…
Следующий день начался установленным порядком и хорошей погодой. Товарищи поправили снаряжение и продолжили путь.
Впереди открывался поворот реки и непрямое ожидание. В первую очередь это относилось к Осмоловскому, для которого всё было вновь. Но, возможно, и Чипизубов переживал нечто подобное, соприкасаясь с вечно меняющимся и неизменно постоянным. Будущее открывалось постепенно, по течению, естественно и определённо, исходя из своей последовательности, сдерживающей человеческую устремлённость и пресекающей его желания. А Чипизубов хоть и был покоен насчёт перспективы, но всё же причастен, – и это говорило само за себя. И Осмоловский, глядя на него, не был навязчив в отношении к будущему. От добра добра не ищут: торжество было одно – и там и здесь; это и определяло сопричастность. – Не возможность, а неизбежность, не изношенную прогрессивность, а побеждающую неизменность, не реализующуюся в недостатке потребность, а исполненную в избытке надежду.
К середине дня они вошли в попутный каньон. Русло заметно сузилось, берега превратились в отвесные скалы, и звук обрёл замкнутый характер. Чипизубов, вторя мыслям Осмоловского и отдавая им должное, направил лодку к берегу и причалил у береговой террасы, будто специально устроенной для спуска к воде и остановки, соединённой с верхними ярусами подобиями ступеней характерно правильной формы и чётких очертаний. Малое и, в общем-то, безобидное стремление Осмоловского, так предупредительно подхваченное Чипизубовым, было осуществлено: он-таки ступил на этот берег и ощутил-таки эту твердь под ногами.
Кто не знает всего, тот не знает и малого. Кто не знает вечного своего образа, тот потерян и во времени, почитая своим всё то, что ему это время ни положит. – Так ему кажется… Кто не знает о невидимом и не имеет в себе места для него, тот лишён и своего места здесь. – Отнят, полагая местом своим условия и реализуя эти условия для себя и по разумению своему. – И нет места в месте… Так откуда этот каменный берег, на котором ничего нет? Откуда это стремление утвердиться здесь, полагая и зная, что даже огонь здесь недоступен, – и нет никаких условий для остановки, кроме как стремления почувствовать «твердь под ногами» и уделить себе удел свой, определяя себя уже не условиями, а отсутствием их? – Постоишь и уйдёшь, пребудешь и отступишь, – даже по причине сей малой, сиюминутной, невозможности, – открывая и закрывая, утверждая сокрытое и свою же несостоятельность утвердиться в нём, сокрушаясь и… радуясь этому сокрушению.
– А ведь потерянные всё-таки не знают, что они потеряны. И сказать-то об этом – не скажешь. – Они слишком «уверовали» в свободу слова, чтобы считать слово ценностью; а эта свобода является и почитается за ценность там и тогда, где и когда само слово ценностью быть перестаёт. Иначе бы зачем всё это? – Всё решалось бы само собой, и вопрос этот не возникал бы. И это ещё одна подмена и ложь. И ещё одна возможность жить по лжи, оставаясь при этом честным… Может, тогда действительно лучше молчать или говорить в молчании что-нибудь не то, дабы плевали на тебя, не в силах поругать сокровенное?..
Чипизубов не ответил…
Странное дело, но они задержались здесь много более предполагаемого. Отвесные скальные стены и гулкий внутренний шум воды, ограничение перспективы и наступающие каменные теснины. – Но, опять же, странное дело, – казалось, что жизнь начинается там, где исчезают возможности. И это настораживало и завораживало, заставляло неметь и продолжать быть здесь, принимая ценность как подарок – на пустом месте, из ничего, из сотканного пространства, из оставленного времени, из того, что было, что есть и что будет. – Вне возможностей и условий их осуществления, из всего, чтобы жить.
И горький парадокс грехопадения – нерешимость и несостоятельность перед избытком – проявлял себя будто не на «своей территории», «вне закона», – а посему исчезал, оставляя лишь расползающийся след. И уже где-то там его проявление переходило в свидетельство ущербности, где-то там полагало быть чуждым «по определению», предпочитая и обретая прибыль и утверждая этот «естественный посыл»… Это ли дело как дело? – в порядке вещей и с непременным ярлыком на состоятельность в ранге «такова жизнь»? – Будто у жизни нет больших оснований. – «Везёт как утопленнику, – только и мог сформулировать Осмоловский. – Слово как образ, где правда в исконном, для нас – в минувшем. А истина в постижении и развитии – это от человека. – Вроде как в будущем – а посему эфемерна. Вначале было слово – и будет. Правда же не по пути, а искони, – время правды не несёт; и мы все родом оттуда, из детства, – в попытке повзрослеть как надо». – Осмоловскому не оставалось ничего более. Ничего более он и не имел…
Но само «более» – никуда не делось. Оно чуть отступило, замерло и притаилось, пережидая и дожидаясь возможности выйти вновь. – В самом деле: не век же им здесь быть. – Здесь даже огонь недоступен, и надо подыскать место, лучшее для остановки. Да и не проголодались ещё, видимо, родимые. – Ничего, обождём… Оно хоть и нетерпеливо, но, когда надо, терпеть умеет. На нетерпимости своей и потерпит. На ненасытности и подсчитает. На невоздержанности и отступит. – Дайте только время – время играет за…
В конце концов, истина человеку дана – её выдумывать не надо. Вопрос в том, как совместить человека с этой истиной… пока человек не вознамерился совместить её с собой… Или, как некогда сказанное и услышанное: сын, всё моё – твоё… – Всё твоё – моё?.. – Нет, всё моё – твоё…
Наверное, со стороны могло показаться, что они находились в состоянии некоторого душевного дрейфа, что ли, или даже, может быть, в соответствующем этому состоянии духа. – Но это не совсем так. С другой стороны, нельзя сказать, что здесь совершенно не было людей. Так или иначе, следы пребывания человека здесь наблюдались, но они были «частью без претензий»: немногочисленны не только по количеству – что понятно, – но и по качеству. И всё же Чипизубов был вынужден констатировать:
– Завтра уже можно будет более предметно наблюдать, как нарастает хаос запустения от увеличивающегося присутствия человеческой воли. – Пока ещё не очень, местами и не так явно. Но ведь это – с чем сравнивать и пока. Земля проклята в делах человеческих, как, наверное, и человек в собственной истории, – и ничего поделать с этим нельзя. – Паче потому, что ложь давит изнутри, а не откуда-то там снаружи, понуждая сокрушаться, а не просто морщить нос. – Сблёвывать, а не уходить, – Чипизубов улыбнулся. – Женщины, наверное, понимают это лучше… – Ежели понимают…
Если вам предложат побывать в низовьях Тунгуски – соглашайтесь. Кажется, ничего более обоснованного вы никогда не увидите. Ничего более обоснованного не представится вам в этой жизни. И пусть даже вам не повезло со временем, и время ушло, и вы опоздали, и… тем не менее… И даже если ваше на поверку блудливое трезвомысляще-потребляющее существо попытается что-то говорить – не верьте ему и молчите. Не верьте – это всё пустое. В противном случае у вас будет лишь удовлетворение потребностей: этакое удовольствие, условно-досрочное освобождение воли…
Здесь же потребностей нет. Вы даже об этом и не подумаете. Но только если вы, конечно, непотребливы по жизни своей. Иначе – не будет вам места здесь. Вы просто не найдёте его. Вы чужой, и вы канете – в этом междуречье, в этом центре тяжести, – благо здесь есть куда кануть. Даже не надейтесь – не ваше это место… Так вы и кончитесь – умрёте. – И умерев, исчезнете без вести, даже если и имеете кое-что за душой, даже если тело ваше найдут… Не ваше это место, как ни старайтесь. Вы умрёте неизбежно и неколебимо, определённо и… необходимо… Здесь живут только добрые люди… И в таком случае – мы все пропали… И всё же… – постарайтесь не понять. Всеми силами души своей – постарайтесь… – А вдруг у вас тоже не получится. – И умрёте, и не имеете права к жизни, дабы видом своим не обезобразить всё, дабы краснеть не пришлось за вас… И это тоже война…
Когда молчащие воды вновь приняли их, и, преодолев каньон, поток набрал ширину, обрёл перспективу и рассредоточил восприимчивое к звукам пространство, дело уже шло к вечеру. Сторонний зверь, вышедший на берег, провожал взглядом далёкую точку, втягивая носом воздух и пытаясь определить характер сопричастной удаляющейся жизни. Пролетающая птица брала их сторону; делала пологий разворот, оценивала обстановку и летела далее, перемещая образ выше и перенося его вглубь прилегающей тайги.
Порыв ответного ветра ударил в нос лодки, упредив переходящее время и мягко отдавшись в людские тела. Чипизубов обернулся вперёд, а Осмоловский положил вёсла на воду. Так они просуществовали с минуту, а через полчаса уже были на берегу.
2
На следующий день Осмоловскому показалось, что содержание мал-помалу переходит в больничный приёмный покой, с этаким особым, характерным ощущением чего-то: будто немощь позарилась иль слабительного принял не по делу. Вроде и пространство не особо изменилось, хотя и изменилось, но не так чтобы указующе. И воздух, его наполняющий, не сделался более спёртым. И невозможно было сказать, что плоды цивилизации прям-таки обозначили себя. Но Осмоловскому представилось, что ещё тогда, в те давние времена, нечто подобное уже присутствовало; и именно это побудило давешних людей утвердиться здесь. – «Хотя они, наверное, были и менее испорчены. Но математик без пренебрежения к себе самому – это большая опасность для общества… Но я же всё-таки прикладной и уже не математик».
Ежели доводилось вам сидеть у постели умирающего, то, может быть, ощущали вы странную неуместность своего пребывания, своих кажущихся забот и попечений. И попытка какого-то действенного участия вдруг натыкается на почти гоголевское: оставьте меня… зачем вы меня обижаете… Имейте хоть каплю уважения, неужели вы не видите ничего вокруг?
Так умирающая птица вдруг распускает крылья – в последнем совместном акте души и тела, в едином, обоюдном согласном стремлении последних мгновений неразделённой жизни, где ещё миг – и крылья сложены. И цели у души и тела одни: взлететь и не оставить ничего, кроме правды. И кто из вас умер, и где здесь горькое лекарство, и кому его пить? И тело остаётся лежать, и миг ранее ещё здесь, и не осталось ничего, кроме правды. И адвокаты не у неё, а у вас… Или вы видите эту правду и она вас не отвергла?
3
К четырём часам пополудни товарищи пристали к берегу, сложили лодку и поднялись по крутому деревянному трапу. Вдоль обрывистого берега шла дорога, и, пройдя по ней вдоль деревянных рубленых домов, путники свернули в проулок и направились вглубь. Через несколько минут они уже были на месте, ступив в пределы довольно обширного подворья, в глубине которого возился хозяин. Заметив гостей, он отставил своё занятие и двинулся к ним, попутно улыбаясь и приветливо образуясь во времени.
Необходимо было передать лодку, дабы с оказией заложить её на прежнее место; и здесь с хозяином имелась договорённость.
– Витя собирался вверх. Доставит.
Григорий Елисеевич Сотников был человеком примечательным. Сын его, Виктор, служил учителем в местной школе, а сам Григорий Елисеевич содержал на втором ярусе домашнюю обсерваторию, и не просто так – на звёзды посмотреть, – а с продолжением «об устройстве мира и его развитии». – «Хобби у меня такое, раз уж живу. Хотя, конечно, и не без потерь. – Каюсь, грешен», – говаривал он подходящему собеседнику. Жена его, уроженка из местных, принесла ему троих сыновей, но здесь остался только младший, что «вот-вот оженился и, Бог даст, здесь и осядет, – не без удовольствия отмечал Григорий Елисеевич. – Жену местную взял, и это обнадёживает».
– А он не математик случайно? – поинтересовался Осмоловский.
– Нет, скорее историк, – улыбнулся Григорий Елисеевич.
Сотников пригласил было их в дом, но Чипизубов, сославшись на обстоятельства, предложил перенести «на попозже». С тем и разошлись.
Всю дальнейшую дорогу мысли Осмоловского крутились где-то рядом с вышеозвученным «скорее историк», и добродушная улыбка Сотникова вдруг коснулась и его губ. А тут ещё этот «скорее историк» вышел навстречу с ватагой ребят. И уже после короткого приветствия и пары добрососедских фраз за жизнь Осмоловский, глядя вслед удаляющимся, про себя всё же отметил: «а вот я, наверное, даже сейчас пошёл бы в математики. Но это по обязанности. А «скорее историк» – это вроде как само собой разумеющееся, а потому безусловное, как бы это, на первый взгляд, ни показалось странным».
На возвышенных приполярных широтах солнце, кажется, угнетается не только своим положением относительно горизонта, но и каким-то созвучным, молчаливым согласием. – Так что было бы прям-таки нелепо, ежели было бы как-то иначе. В этой симфонии силы и немочи угадывается неведомый человеческому существу промысел, заставляющий подниматься и смотреть, подниматься и слушать, дабы, ослепнув и оглохнув – скорее от отсутствия, нежели от изобилия, – вплотную подойти к избытку. – Имея, а не пытаясь иметь, вкушая, а не стремясь ко вкусу; слышать не вслушиваясь, видеть не всматриваясь, и выражать собой всю полноту слова, ничего при этом не говоря… – И приблизившись, вновь рухнуть и возжелать тёплого солнечного света, тёплой родной земли, уютного крова и приятельского человеческого общения; и испытывать потребность в близких, и печалиться, когда ничего этого нет, когда недостаёт тепла, когда нет рядом любимого человека. – И утешаться мыслью о нём, и иметь, не имея, и умиляться в потребности. – И потянет в тёплые края, так как там всё это ближе и доступнее. Но и там есть, где спрятаться. – В пустыне. – Будто от теплового удара спасает только изнуряющая жара.
Кажется, что не может быть у солдата на поле брани друга не солдата. На поле брани друг не солдат – балласт. Это горько, но это, похоже, та правда, что позволяет держаться и побеждать. Отсюда и дистанция, и уединение. И это от жизни. По крайней мере, так кажется, ибо тогда каков же смысл победы и каково единение?
Чипизубову было одиннадцать, когда началась война. И уже в столь зрелом возрасте он всё больше сопрягался с мыслью, что новое – это хорошо испорченное старое. Всё чаще на память приходил образ учителя – на самой восходящей заре жизни, – что совершенно обыкновенным делом мог взять тебя за ухо и отвести в сторону.
И оставить там за неуместно вылетевшее слово – в вопиющем одиночестве, пусть даже и у всех на виду. – В оглушительной пустоте, звенящей и доходчивой, без права двинуться с места и как-то обозначить себя.
Потом, несколько позже, уже во времена студенческой юности, он познакомился с одним человеком – Петром Козачевым, – который, впрочем, и остался «одним человеком» на всю последующую жизнь. – По форме и обособленности, и по особому свойству памяти, что выделяет всё, не спрашивая и не оценивая ничего.
Пётр был старше, но не так чтобы очень, а, скорее, ровесник поопытней. В общем, – почти как в песне, – «не на отчество постарше, но на войну помоложе».
Вспомнилось, как судорожно вышагивал он по комнате – взад-вперёд, взад-вперёд, периодически будто выкладывая слово на руки; смотрел на него, прикидывал на вес, пробовал на жёсткость. После прикладывал руки к голове, будто возвращая обратно, и снова ходил взад-вперёд. Стрелки часов отсчитывали ночные часы, за окном намечался рассвет. Он усаживался за стол, снова выкатывал слово, снова прикидывал и сжимал, клал на крышку стола, опускал руки, уставясь вперёд, что-то складывая и вычитая. Опять брал в руки, прикладывал к голове, продолжая сидеть уже почти неподвижно. Брал папиросу, курил, гася подступившее и не отступающее беспокойство. Брал чайник и выходил в коридор, возвращался с кипятком и заваривал чай. Наполнив кружку, прихлёбывал и стоял над столом, уставясь в его крышку. Снова отхлёбывал, ставил на стол и снова ходил – взад-вперёд, взад-вперёд.
Наступало утро, и Чипизубов заставал его дремавшим – за столом или на шконке, поверх покрывала. – Будил, и они вместе собирались и уходили в прохладную свежесть. Утренний седой Ленинград, Исаакий и Медный всадник, Нева и глыба Горного института привязывали их к месту, и Чипизубову было непонятно, поддалось ли слово, допустило ли человека, одарило его или отняло, благословило или отторгло.
Вспоминая Петра, Чипизубов всегда ощущал своё сердце – будто это сжатие оттуда, из теснин долгой, но такой короткой человеческой памяти. И уже вся последующая жизнь была вроде как продолжением тех дней и ночей.
…И следующий день и следующая ночь. И ничто уже, казалось, не могло спасти его от этого сна. Что-то стонало. Это шаги. Он лежит, и он знает, что лежит там, где лёг. И поэтому это уже не сон. Вот он десять минут как лёг. И вот прошло десять минут, и он так же лежит. Но всё обращается в какое-то скручивание пространства – будто в попытке отжать, выжать. И он вроде просыпается и всё так же лежит. – «Значит, это не сон? Да какой сон?! О каком сне идёт речь?!» И страшно, и не сон. И ужас подступает со стен и входит в тело, – и страх, и трепет. А он встаёт. Взлети! – это не приказ, это само собой. – Страшно. Свет, никак не утверждаясь: свет – тьма, свет – тьма… Надо зажечь свет. – Он тянется к выключателю. Свет трещит, коробит и светит мерцающей трескотнёй. – Нет возврата, нет выхода. – «Наверное, уже седой…» Но рядом, здесь, Пётр. Он снова ходит взад-вперёд, снова будто выкладывает слово на руки, взвешивает и сжимает; и оно отзывается. И вновь он наливает чай, и вновь комната наполняется табачным дымом. И вновь он выкатывает на горячие ладони камень, и слышится далёкое пение. – Не отсюда… И сквозь камень проступает клокотание живого, тёплого, что перетекает сердцем, возвращая и отдавая. И он садится и наблюдает, как исторгается светящийся воск, тёплый и до неузнаваемости живой… А потом снова утренний седой город, Сенатская и одинокий всадник, небо и купол Исаакиевского собора, Нева и Горный институт…
Пётр пришёл с войны и к войне ему не привыкать. Ещё совсем мальчишкой очутился он на фронте. – Он видел победу, и она брызнула двумя красными каплями-звёздочками на его гимнастёрку, рассыпаясь на блёстки и играя в лучах майского солнца и пасхальной – трудной, но такой лёгкой, ещё совсем мальчишеской, но уже и мужественной, – радости. И юный ветеран, вернувшийся с той войны на другую, о которой он ещё ничего не знал, – невидимую и тогда ещё неведомую. – Уже будучи победителем, хотя, возможно, и не совсем осознавая это.
Что победа без беды? – удача, везение – дармовщина на потребителя. А то, что потребляет, то не победит…
Впереди открывался Енисей, и Чипизубов устремил взгляд туда, в обширное слияние двух потоков воды, целенаправленных и, казалось, вершащих всю здешнюю историю. – Откуда ты вышел и куда пришёл?..
Будучи учёным-практиком, довелось ему участвовать в одном международном мероприятии по, как это водится, определённым, требующим обсуждения и обмена мнениями вопросам, в детальность которых по истечении долгого времени вникать и не стоит, тем более что и не в этом дело.
После одного из нескольких дней работы собралась группа «по теме», дабы продолжить общение в неформальной обстановке и в более свободном и открытом режиме обсуждения. И слово за слово – дело перешло на «прикладные темы и уж совсем общие вопросы» с идеологической – как сказали бы тогда – и даже мировоззренческой составляющей, «в парадигме: два мира – два образа жизни». И Чипизубов, на чьё-то высказывание по поводу «прав и свобод», совершенно невозмутимым образом определил, что кто ж это говорит о человеколюбии-то? – Та лучшая часть цивилизации, которая уничтожила население целого континента, а население другого превратило в рабов по определению, с отторжением от собственной земли и собственного истока, дабы «побольше жрать и поменьше работать» – то есть потреблять? Или та лучшая часть цивилизации, на счету которой первое и единственное применение ядерного оружия? Или та лучшая часть цивилизации, которая является колыбелью фашизма – со всеми вытекающими отсюда последствиями? – Подобные достижения никому и не снились, и что с такой дурной наследственностью – по определению – надо бы вообще помалкивать, так как вряд ли здесь может получиться что-то здоровое и даже живое.
Всё, может быть, на том и закончилось бы, тем более что обстановка была неформальная, даже приватная, – постепенно затухло бы и обернулось ничем, но Чипизубов, дабы прекратить этот «вербально-социологический понос и всё встало на свои места», подошёл к оппоненту, взял его за ухо и отвёл в сторону, в угол, – там и оставил. Получилось это у него на удивление гладко, и когда наступившее молчание прервалось, образовался небольшой скандал, который, впрочем, быстро замяли, поскольку, опять же, «всё было приватно и в узком кругу». Чипизубова, понятно, пожурили, но это было, что называется, взыскание сквозь признание. Но всё-таки пресекли: как бы чего не вышло. В общем, оргвыводы сделали и протокол соблюли.
3
под седлом, в узде, но без него… – из песни В. С. Высоцкого «Бег иноходца».