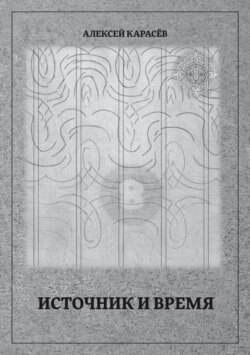Читать книгу Источник и время - - Страница 8
Часть вторая
Осенний призыв
В поисках молитвы
Оглавление«Бог любит человека, а дьявол – людей. Человека он ненавидит. Порой кажется, нет ничего хуже, чем иметь дело с людьми. И даже, кажется, что нет ничего позорнее этого… Но, пожалуй, что и есть. Есть такая вещь, более мерзостная, – чуждая и, кажется, богопротивная. Это вот иметь дело с самим собой…
Но, впрочем, иметь дело с самим собой – вещь подчас очень даже интересная и премиленькая. Но вот как же не приятно иметь дело с самим собой? И интерес этот именно в постижении. В вопросах, задаваемых себе самому. А иногда даже, для некоторых людей, в ответах, даваемых на эти вопросы. Я вот даже знавал людей, которые вместо того чтоб даже стакан воды подать страждущему, вместо него – раз – слово, сентенцию. Но это ладно. Такого добра много: одни – камень в протянутую руку, другие – сентенцию. Это всё, братцы мои, ерунда. Это, я бы даже сказал, совершенно и нормально. Камень ведь – он что? Он и есть камень – предмет холодный и тяжёлый. Ты ж его вроде раз – и выбросил. И слово тоже – не заметить можно. Но нет. Есть люди, которые вместо воды стакана страждущему человеку – сентенцию – раз! И что б вы думали? – Начнут убеждать, что вот это и есть то, что ему, человеку, нужно. Что вот это-то и есть само откровение. А откровение – то стакан воды, поданный вовремя. Пойдут разговоры, что и время-то относительно, и даже перед вечностью. И разум ведь, в силу тех же самых сентенций, смирится и вывернет так, что вот это-то самое слово, сентенция, и есть стакан воды. Ну и что вы ему возразите? – И умираешь от жажды… Но и тут не успокоятся; скажут, что от непонимания умер. Вот какие есть люди. Я, знаете ли, даже люблю тех людей, которые вот эти камни-то кладут. Они вот и мерзость свою не скрывают… А тех не люблю, прости Господи… Хотя, может, и их тоже люблю, – сам такой же.
Страшно попасть в руки Бога живого. Страшна бездна, которая смотрит в тебя. Разве ты мог, что хотел? И разве хотел того, чего не мог? Так на что ты рассчитывал? Или лишь почувствовал двусмысленность, не почувствовав мерзости? Так чего же ты хотел, если мерзость твоя лишь двусмысленность? И на какие вопросы ты отвечал? И не мерзость ли отвечать на вопросы, стоя пред Богом? И как провинившийся шкодник стоял ты пред Богом и отвечал на вопросы. И как ты мог, чтобы Бог слышал речи из уст твоих, не подозревая сам, что сам лукавый стоит пред лицем Его. Он, Который Сына Своего Единородного не пожалел отдать; и как ты мог после этого почитать мерзость за двусмысленность? И как ты мог после этого предстать пред лицем Его? И что слёзы твои, и что все слёзы мира пред слезами Бога живого, пред скорбью Его? И Он ли не хотел, чтоб ты был равен Ему, и Он ли не жалел как Отец, и Сына Своего Единородного на заклание не послал? Так чего же ты хотел после этого, представ со своими выводами и речами своими пред лицем Его? Или же думаешь ты, что Он скорбеть не мог? И не лукавые ли это речи, ещё раз встать между, и сатанинской своей властью низвергнуть Бога в человеках, и обратить мерзость в двусмысленность? И разве не радовался Он, когда Сын Его воскрес из мертвых; разве не Отец Он, Бог мой? И разве не может Он быть один с человеками, и разве нет у Него для человека слёз радости и печали? И что же случилось, если мерзость вдруг обратилась в двусмысленность, а Бог стал не Богом, а человеческим подобием?
Так за что же убили Бога Живого? За что унизили Отца, принявшего смерть от разумных страстей людских, оттолкнув и создав себе бога, который всего лишь слово, если он не Бог? Так какие вопросы ты задаёшь пред Ним? И какие ответы ты произносишь пред Ним? И какие определения готовишь, определяя? – Грех и мерзость на пороге двусмысленности. Грех и мерзость в пылу познания. Тщета жизни вопрошающей и тлен смерти, жаждущей насытится мудростью. Бог мой! Разве можно смотреть, когда дают имя, говоря, кто Он; Творец и тварь. Бог мой! Разве Ты ничей? Пусть и всё тогда будет ничьим, чем иметь Бога чужого…
Вырванный из привычного лона, смотрящий и жаждущий видеть, надрывает человек скудные свои силы в стремлении вырвать то, что имеет. Но стремление его – грех его, а стремление иметь то, что видишь, – лишь смерть. И опыт этот нужен, может быть, лишь для того, чтоб пред лицем веры принести его в жертву, оттолкнуть его и совсем перестать жить им. И уж тем более, кто знает, захочет ли Бог принять эту жертву; или обратит взор Свой на совсем ещё только родившегося, мокрого, вот-вот вылезшего из материнского утроба; на что тот, последний, проглотит вырывающийся крик и больше уже не вспомнит о нём, будто его и не было. И будет он иметь всё, чтобы жить. А ты обречён; всей своей мудростью, всем своим знанием, всей своей жизнью, что добыта в благих, но не богоугодных делах, ибо благо – всего лишь благо, если оно не оружие в руке Бога живого и не меч, принятый из рук Божиих. Ты обречён лишь умирать, неся свой опыт, свою жизнь на потребу смерти и конца. И кажется счастьем, если до последнего мига не узнаешь ты о том, чем был, и сойдёшь со спокойной совестью в могилу; и только там вдруг удивишься, что участь твоя так же страшна, ибо страшно попасть в руки Бога живого; и спасутся не те, кто жил достойно, но те, кто умел побеждать и не называть добро – добром, а зло – злом, вопрошая о Боге и не прося о законе человеческом, принятом от греха, иссушающем древо жизни и убивающем Бога живого, ибо вера не в законе, а в Его произволе; им и исполнена. И не принимай мерзость за двусмысленность, коль скоро заговорил о «да» и «нет». И закон твой – беспринципность, возведённая в абсолют, ибо он – закон человеческий – последнее прибежище негодяя, – когда некуда идти, кроме как туда, куда идти хочешь и к чему стремишься, – убить Бога живого, умерев самому.
Диву даёшься, коль скоро прожитая и накопившая силу мудрость ниспала, унизив и отвратив лицо своё от того, что есть соль, и в падении упорствует, возводя добро и зло, называя свет – светом, а тьму – тьмою. И разве благостен для взора тот, что есть соль в удовлетворение иль в удовольствие? Но коль так – не страшен ли лик Его во грехи человеческие? и не благостен ли в насыщении дьявол в белых отуманенных одеждах, когда благо – лишь благо, а не спасение? Ему вбивать клин, говоря о твари и Творце. Ему искушать в пресыщение, и ему свет в руки, дабы не сбился человек с пути его и не узнал, как страшен лик Бога живого, когда всё ещё теплится маленькая надежда на спасение. И укрыть ярким светом земным лик Бога живого, и унизить Сына Его в смерти, и отвратить взор человеческий от ужаса того, что он есть.
В отдалении ли, вблизи ли, пускаясь во все тяжкие, спускаясь на дно или барахтаясь на мелководье и воспринимая свет земной, помнишь ли ты, где находишься? и что делаешь? И что проку, если благие посулы лишь в насыщение, а насыщение – в удовольствие, будто нет ничего кроме, будто нет того, что невидимо, будто всё, что у тебя есть, способно иметь то, чего быть не может; и не может ли? И будто бы, чтобы быть, надо всего лишь быть, и чтобы иметь, – надо всего лишь знать. Или, может быть, ломиться в открытые двери, изнывая от неразрешимости вопроса? Но не дверь закрыта, а ты немощен, ибо ставя вопрос – отсекаешь десницу, ставя другой – колешь око, а давая ответ – убиваешь себя. Так как же ты намереваешься идти, если ответ для тебя – ответ, а вопрос – вопрос?.. Или, может быть, ты не хочешь попасть в руки Бога живого? И хватит ли у тебя сил не ставить вопросы и видеть всё как есть, если ниспал ты в первом грехе своём и умер в нём, так и не вкусив жизни? и не вкусив, не зная, что живёшь.
Глас вопиющего в пустыне более способен, ибо он не ждёт ответа, а лишь знает в надежде. А кто хочет ответа, пытая окружение и уродуя себя в стремлении лишь удовлетворить похоть познания, – ущербен, ибо упрям в желании не начала, но конца. И это торжество цивилизованных подонков, кроющих мерзость за благими речами и облагороженными действиями, ибо дела их – во грехе, а лица их умнее самих себя; и добро их – всего лишь добро, а зло их – не больше, чем зло; а убеждения их – только убеждение, а жизнь их – не больше, чем их смерть. И можно ли жить среди этого и не надорваться, не кануть в бездну, поддавшись смерти в торжестве беспредела разума? – Но как ты тёпл, то изблёван будешь.
И уста немеют, и глаз застит, и дождь находит свою землю, и снег укрывает зиму там, где был твой дом, где рождён ты подобно тысячам живущих, разве что молчаливее и неприметнее, сливаясь с окружением и выдавая себя лишь тогда, когда очень уж ретиво домогались. Но разве дом твой затерялся среди тысячи домов? Разве земля твоя исчезла в толще других? И разве забыл ты родившую тебя там? Но если и вправду – дом твой затерян, и земля твоя покрыта, и забыл ты? Если и вправду – всё утеряно и ушло? Что тогда остаётся? И остаётся ли вспомнить, потеряв? И остаётся ли вспомнить, что ушло, и сделать потерянное – обретённым, живым и побеждающим? Или в угоду форме стенать об утраченном, полагая, что всё, что навсегда, – навсегда, и что лишь на время, – тоже навсегда; ибо жизнь – она лишь жизнь, если она не вечна.
Так что человек? Грех ли? Тварь ли?.. Но ведь это змию нужна бездна, чтобы не было видно края пропасти и чтобы там никто не ждал.
И первое слово его – пропасть, второе – бездна, третье – смерть.
Так что говорить о Всетворце и молчать Бога живого? – Бездна и смерть. И что от веры, коль знал ты Всетворца и умолчал в сердце своём Бога живого? ибо пытается человек обрести Всетворца в тщетной попытке познания, а Бога Живого любит… Он проживает твою жизнь вместе с тобой… И умирает вместе с тобой… И даже когда ты Его убиваешь… Так чего же тебе ещё?..»
Уже наступил рассвет, когда он остановился. До этого путь проходил средь узнаваемых мест, которые вдруг стали отдалёнными, почти чужими, и только известное чувство причастия позволяло не запутаться и всё же каким-то образом отнести себя к окружению, безмолвному, отстранённому, напоминающему о себе не прямо, а так, опосредованно, чтобы, наверное, не беспокоить. И в этом угадывалось, что он сюда не вернётся.
Остановился он от усталости неведения. Неведение устало быть с ним отошедшим и осталось чуть поодаль, устроившись у поваленного дерева, ещё не отдавшего листвы и не испустившего свои соки в землю.
Он осмотрелся. За несколько часов ходьбы его вынесло в окрестности города, и ему на какое-то время подумалось о том, как же он будет без всего; что надо хоть за чем-то вернуться, – может, за самым необходимым, чтобы быть способнее. Но это длилось недолго, и он забыл об этом, даже не удивившись своей безответственной прыти.
Странным показалось ему его окружение, злобным и неестественным. И внезапно образовавшийся нарыв вдруг лопнул, и дурная кровь схлынула, оставив его совсем одного.
Он не знал, куда шёл, и это его совершенно устраивало.
Ежели будут рождаться ещё слова и ежели будут походить они на музыку, идущую с неба, то и найдутся люди, кои услышат эти звуки, но людей этих знать не придётся в порывах суетной и порочной жизни, когда открыто много дорог – дорог манящих и уводящих, сулящих видимое благо и дающих его.
Всё это дороги земные. Даже при самом благостном расположении ходить ими всё же ущербно именно потому, что как бы далеко и как бы долго ни шёл, а конец неминуем…
Не стоит ходить дорогами земными. Не стоит знать открытий, ибо открытия убеждают в верности пути. А уж коль скоро занесло, то стоит вернуться назад, к дому, дабы не увести себя за точку возврата, когда груз приобретённого спутает ноги; и при всей силе и при всей славе всё уже будет потеряно. И даже если сердце будет шептать, и даже если шёпот этот будет услышан, – то и это уже ничего не изменит. Падающий сожалеет о своём падении и всей своей нажитой мощью пытается взмахнуть крылами, но вместо хоть каких-нибудь слабых крыльев у него всего лишь сильные руки. Так что лучше, может, даже и не пытаться, и не знать, и умереть по жизни глухим со счастливой улыбкой…
Хордин уходил далее.
И вот, казалось, когда невозможно ничего изменить, когда всё омертвело и ждёт своего полного конца, когда смерть уже почти празднует победу, ещё и ещё раз утверждаясь над миром и ставя на всём свою печать, находится-таки совсем маленький, до невозможности тесный просвет, вкладываясь в который уже не думаешь о «быть или не быть?», «что делать?» и «кто виноват?», – об этих дурацких вопросах трепетной, бессильной жизни, тешащей своих вырожденцев, заставляя их не иметь истину, а искать её; заставляя всю эту нелепую челядь выдумывать себе бога по грехам своим, прикрывая свою собственную немощь своим же собственным позором. И это уже не гамлеты, умирающие от безысходности. Это воинство человеческого интеллекта, склонное к ответу и даже «знающее» его. И вся эта воинственная мерзость – оплот цивилизации, давящий из себя попытку бессмертия, пестующий светлые гуманистические идеалы человечества. И это ведь не подростки. Это вполне зрелые люди. И, тем не менее, при всей своей ущербности и вопиющей беспомощности мира пред Истиной и Правдой, иллюзорности его ориентиров перед действенным и побеждающим: Лазарь! иди вон, – мир этот торжествует. Но торжествует в самом себе. – Торжествует в вырождении и побеждает в смерти…
Пока Хордин шёл прочь, не отдавая отчёта. – Приближаясь…
В бесплодной попытке разродиться хоть каким-нибудь видимым результатом, дабы не носить в себе этой невозможности, не подначивать себя лишний раз, призывая свою немощь выдать и представить всё в «благородном порыве гуманистических идеалов», ставя вопросы в безудержной гордыне своей что-то мочь – как ещё можно на что-то надеяться после этого? И как можно вообще притронуться к перу и вылить на лист бумаги то благо, которое будет лишь мерзостью в глазах Божиих и обернётся, кажется, – неминуемо обернётся, – запустением и смертью?
Что же тогда остаётся?..