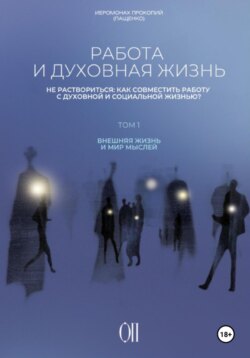Читать книгу Работа и духовная жизнь - - Страница 66
Внешняя жизнь и мир мыслей
Часть 4.1. Главная проблема конкретного человека [например: срыв, психоз] и обретение равновесия, внутреннего мира[134]
Психопрактики в сравнении с православной духовной жизнью
ОглавлениеИной подход демонстрируют люди, пытающиеся с помощью эзотерических практик снизить уровень напряжения. Вследствие того, что практики глубоко неестественны для человека, уровень напряжения в итоге растет. Эта мысль принадлежит одному монаху, который до своего обращения к Православию был эзотериком и активно практиковал медитацию и прочие подходы. Эту мысль он высказал при следующих обстоятельствах.
Недавно инициировал беседу знакомых с одним предпринимателем в надежде, что он им поможет. Знакомый (пришел на встречу с компаньоном) вкладывается в проекты и при этом не всегда испытывает удовлетворение, хочет больше заниматься благотворительностью, не всегда понимает, как совместить работу и свою жизнь (жизнь как человека мыслящего). Чувствует иногда, что будто делает не свое дело. И я надеялся, что предприниматель поделится своим опытом. Половину беседы он все говорил очень хорошо и правильно, а потом начал рассказ, как он ездит на випасанну и как занимается йогой (не ожидал, что беседа выйдет в эту плоскость).
Отмечу, что его занятия – не совсем йога и випассана. Он прошел 90-е годы. Терял весь бизнес, опускался до нищеты и вновь поднимался, у него большой жизненный опыт, человек крепко стоит на ногах. И как человек, крепко стоящий на ногах, даже если он едет на випассану, он выносит оттуда что-то свое, как-то по-своему все интерпретирует, не перенимает полностью и на 100 % то, что ему говорят гуру и различные учителя медитации.
Бывает, что люди пытаются обрести равновесие через погружение в психопрактики. Кто-то практикует випассану (учатся концентрироваться на какой-то части тела). Кто-то концентрируется, например, на стене, пытаясь войти в состояние «здесь и сейчас».
С состоянием здесь и сейчас многие ассоциируют счастье. Можно предположить, что практика вхождения в это состояние придумана (условно) для бизнесменов, голова которых забита цифрами. Приезжая домой, они не могут расслабиться и пообщаться с детьми. Им советуют: сконцентрируйся на стене, коленке или кончике языка. Монах, о котором здесь идет речь, практиковал подобное до христианства. Он сравнил разницу результатов применения этой техники и с тем, что рождается вследствие молитвы. Если человек молится, ему дается понимание: если ты поступишь так – Господь даст такой вариант, поступишь эдак – будет такой вариант. А когда ты концентрируешься на стене, ты не читаешь, не молишься, ты просто «тупо сидишь и смотришь на стену» (остальные его мысли насчет «здесь и сейчас» – в 21-й беседе цикла «Восточный цикл»).
Мимоходом стоит сказать о состоянии «здесь и сейчас», используя в качестве одного из возможных примеров опыт выживания людей в экстремальных условиях. Например, концентрационных лагерей. Вследствие погружения в шоковую атмосферу, человек терял ощущение прошлого (словно забывал, кем он был, чем занимался, кого любил) и ощущение будущего (словно не к чему стремиться, не для чего жить). Виктор Франкл писал, что выжить в экстремальной обстановке могли те, у кого была цель в будущем[168]. Если точки опоры в будущем не было, то человек рисковал погрузиться в одно невыносимое кошмарное настоящее[169] и сломаться. Человек, ориентирующийся на состояние «здесь и сейчас», надеется в этом состоянии «ловить драйв», но в итоге рискует стать зависимым от той неблагоприятной минуты, которая рано или поздно наступит. Здесь нет возможности разбирать состояние «здесь и сейчас» подробно, можно отметить, что тема эта разбирается в пункте 5.3 данного цикла бесед, а также отчасти – в пункте 1.2 цикла бесед «Обращение к полноте».
К психопрактикам, бывает, обращаются, например, работники офисов, банков, люди, связанные с цифрами (есть и другие варианты, связанные с людьми иных профессий и видов занятий). Они чувствуют необходимость каким-то образом простимулировать свой мозг, который, как кажется, словно коростой покрывается. Человеку трудно сохранить ощущение себя как живого при погружении в условия, в которых рабочий функционал прописан, алгоритмизирован. Мыслить же себя вне работы, гаджетов и социальных ролей человек еще не научился. Возможные последствия обращения к психопрактикам рассматриваются в главе «Тренинги, психо-практики, динамические медитации по Ошо, секты», во второй части статьи «Преодолеть отчуждение (в том числе – и о депрессии»)[170].
Нам необходимо твердо знать, что на основе православного мировоззрения может быть выстроена система конструктивной адаптации к условиям сложной и неоднозначной среды (есть и неконструктивная адаптация, когда человек перестает переживать на тему аномальных условий жизни, снижая порог восприятия, внутренне соглашаясь с аномалией, деформируясь), о чем свидетельствует опыт тех, кто прошел через экстремальные условия и приобрел иммунитет к обезличивающей атмосфере, способной при духовной пассивности человека деформировать его[171].
Возвращаясь к теме встречи с предпринимателем, отмечу, для чего упомянул об этом событии. Чтобы рассказать, как появилась запись беседы с одним монахом.
Люди, которые были со мной на встрече, смутились. Чтобы это смущение нейтрализовать, попросил прокомментировать ситуацию знакомого монаха, который в прошлом, до обращения к христианству, был эзотериком. У него был опыт и светской жизни. Он в 90-е годы был бизнесменом (90-е упоминаются ввиду того, что время это было особое), занимался единоборствами, был талантливым бойцом. Он обладал достаточными средствами, чтобы ездить по миру и изучать различные психопрактики. Он погрузился в глубокую яму и вышел из нее, стал монахом. Мне были очень ценны его высказывания о духовной жизни. Он высказывается о психо-практиках и о православной духовной жизни – в сравнении.
Своим опытом этот монах делится в беседе 21 «Восточного цикла» (в этом цикле бесед разбираются некоторые вопросы, связанные с йогом, восточными психопрактиками и пр.). Беседа называется «Православные монахи о эзотерическом опыте с точки зрения православного опыта»[172].
Также некоторые его мысли приводятся в статье «Цикл бесед «Восточный цикл» и входящие в цикл беседы про буддизм», в главе «О беседе 21-й (в котором православный монах рассказывает о своем прошлом опыте обращения к буддизму) и о беседе 23-ей»[173].
Хотя на данной встрече мы более говорим о человеческих приемах, но есть то, что дается только Богом. Этот монах считает, что если мы начинаем вести духовную жизнь, то Господь дает внутреннее понимание происходящего.
От Бога во время молитвы дается состояние спокойной мысли. Да, у вас есть переживания. Вас иногда будоражит гнев, чувство неудовлетворенности. Но это не захватывает вас до конца. Когда покой в душе, тебя невозможно поглотить полностью. Ничто внешнее не определяет твое поведение. Ты знаешь, что делать дальше. Появляется понимания последствий наших собственных действий. Тогда человек может спокойно и творчески отреагировать на любую ситуацию.
168
«Латинское слово «finis» имеет, как известно, два значения: конец и цель. Человек, который не в состоянии предвидеть конец этого его временного существования, тем самым не может и направить жизнь к какой-то цели. Он уже не может, как это вообще свойственно человеку в нормальных условиях, ориентироваться на будущее, что нарушает общую структуру его внутренней жизни в целом, лишает опоры. Сходные состояния описаны в других областях, например у безработных. Они тоже в известном смысле не могут твердо рассчитывать на будущее, ставить себе в этом будущем определенную цель.
<…> Один заключенный, которому в свое время пришлось долго брести в составе длинной колонны новоприбывших с вокзала в лагерь, рассказывал мне, что у него при этом было такое ощущение, будто он идет за собственным гробом. «Безбудущность» настолько глубоко вошла в его сознание, что он воспринимал всю свою жизнь только под углом зрения прошлого, как уже прошедшее, как жизнь уже умершего. Но это ощущение себя «живым трупом» усугублялось другими особенностями лагерного существования. Неограниченность срока пребывания в концлагере, замкнутость в нем в конце концов делали мир по ту сторону колючей проволоки настолько далеким и недоступным, что он расплывался и терял свою реальность. <…> Внутренняя жизнь заключенного, не имеющего опоры на «цель в будущем» и потому опустившегося, приобретала характер какого-то ретроспективного существования. Мы уже говорили в другой связи о тенденции возвращения к прошлому, о том, что такая погруженность в прошлое обесценивает настоящее со всеми его ужасами» [см. «Анализ временного существования» из книги Виктора Франкла «Сказать жизни «ДА!» Психолог в концлагере»].
169
[Чтобы выжить, за правило] «Имей перспективу будущего. «Тот, кто не верит в будущее, свое будущее, тот в лагере погиб». Свойство запредельного стресса: все сознание человека фиксируется на том, что происходит сейчас. Прошлое и будущее исчезают. Есть только кошмарное настоящее, оно бесконечно, и это подрывает все силы. Крайне важно думать о том, что будет ПОСЛЕ. Франкл думал о том, как написать книгу о страданиях заключенных, о том, какую пользу она может принести. Он был устремлен в будущее, за горизонт настоящего… Плюс неистребимый интерес к жизни: чем это все закончится? Умереть (сбежать, уволиться…) ты успеешь всегда. А увидеть промежуточный конец истории – нет» [Илья Латыпов. Личность против системы: 2 стратегии. Часть 2. URL: http://tumbalele.livejournal.com/57075.html].
170
http://solovki-monastyr.ru/abba-page/solovki_page/1987/.
171
См. подробнее, например, текст «Интеллектуальная деятельность как стратегия выживания в условиях тотального давления» (http://solovki-monastyr.ru/abba-page/solovki_page/2170/).
172
Сама запись: https://yadi.sk/d/0GUnB6vycKRaVg; страничка: http://solovki-monastyr.ru/abba-page/narcomania/#18.
173
http://solovki-monastyr.ru/abba-page/solovki_page/2181/.