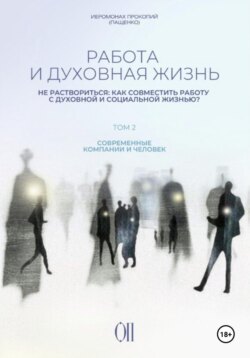Читать книгу Работа и духовная жизнь. Том II - - Страница 30
Современная компания и человек. Бирюзовые корпорации и новая духовность New Age
Часть 3. Концлагерь побеждается человеческими отношениями
Раздел 2
1.1. О бирюзовых компаниях
ОглавлениеВ лекции о бирюзовых корпорациях был приведен пример одной девушки, которая, выйдя на работу после декрета наблюдала негативную трансформацию в отделе, в котором она работала, когда изменилась рассадка сотрудников, навязывались жесткие принципы организации работы и поведения сотрудников, исчезло адекватное межличностное общение, руководство навязывало чтение иностранных книг о корпоративных успехах.
Хотел бы поделиться своим восприятием и мнением по данной тематике и относительно приведенного примера, поскольку он оказался очень близок к той организации в которой я работал на протяжении 5 лет, занимал должность руководителя среднего звена, в связи с чем имел возможность анализировать и наблюдать принципы построения управления и деятельности организации.
Подтверждаю, что большинство новомодных систем управления и принципов управления берется из западных источников, причем копирование идет без оглядки на здравый смысл и полезность этих принципов или систем управления. Система KPI (key performance indicators), на русском – КПЭ, ключевые показатели эффективности, процессное управление, проектное управление, принцип «выйти из зоны комфорта» и другие формы имеют западные корни и представляются как некое сверхуникальное знание и умение, которое несет истинное благо для компании. Но забегая немного вперед, скажу, что все эти системы управления, по моему мнению, не учитывают человека как исполнителя рабочей функции или как клиента компании, ориентация этих систем управления, по моему пониманию, направлена на подавление воли работников, снижение критического мышления, устранение личностных качеств и, как следствие, формирование «роботизированного» сотрудника. Конечно, это может и не плохо для достижения каких-то краткосрочных результатов в работе, и в целом отдельные управленческие элементы могут быть имплементированы без ущерба личностным качествам работников, но в общем подобная практика приводит к деформации мировоззрения, что подтверждается тем, что многие работники компаний получают так называемое «профессиональное выгорание», а по сути – противоречие своей деятельности внутренним убеждениям или совести. Это выгорание начинают «исправлять» некие психологи и «коучи» (простите, очень не люблю англицизмы, но употребил намеренно, потому что представителей этой деятельности назвать тренерами или учителями язык не поворачивается), которые по факту лепят «заплатки» и возвращают человека с поврежденным мировоззрением в ту же среду, но с приглушенной совестью, с измененными внутренними ориентирами. Пример: работник страдает от того, что выполняемые им задачи наносят урон другим людям (допустим, он видит вред клиентам компании), его постоянно дергают начальники, орут на него, возникают серьезные переработки по времени. Психологи «коучи» дают сразу нужное лекарство – нужно отдыхать любыми способами, позволяющими снимать нагрузку, получать новые эмоции любыми способами (к сожалению, многие находят новые эмоции в алкоголе и наркотиках); сама ситуация в компании – норм, потому что так начальник решил и это полезно для компании, а значит, и для работника как составной части; и третий совет – личностный рост через постановку материальных целей в жизни, ну то есть: да, на работе тебе плохо, но поставь себе цель купить Мерседес и копи на него, и воспринимай все происходящее как путь к своей цели.
Начать хочу не с личного примера, а с примера моего друга, который еще лет 12–15 назад устроился на престижную работу юристом в иностранную аудиторскую консалтинговую компанию KPMG, которая в мировом рейтинге входит в ТОП-10 крупных консалтеров. Пройдя кучу всяких собеседований и тестов, он был принят на работу, но примерно через неделю, вливаясь в коллектив, он заметил, что его очень прохладно воспринимают коллеги, и не мог понять причин этому, пытался найти собеседников, помогать кому-то, хоть как-то познакомиться с коллегами пытался разговаривать на общие мужские темы: машины, развлечения, активный отдых и т. д., но всегда встречал односложные ответы, и беседа не поддерживалась. В итоге через месяц-два один из его коллег открыто сказал моему другу примерно так: чувак, не пытайся найти тут общение или друзей, тут мы все просто зарабатываем деньги и каждый настроен только приблизится к уровню партнеров компании (топ-менеджмент), мы ищем только выгодное общение, это бизнес, ничего личного. То есть фактически прямо сказал, что там человек человеку волк, и мой друг наблюдал в последующем, что люди неоднократно пытались вылезти наверх по чужим головам, подогревая и радуясь чужим ошибкам и промахам. С учетом того, что работа престижная, мой друг еще проработал там примерно год и ушел.
Для меня этот пример моего друга в то время был очень большим удивлением, поскольку в тех местах, где я раньше работал, такого не было даже в помине. Приходило понимание, что работа в таких компаниях требует от человека какого-то перелома, специфического настроя, сейчас я бы назвал это изменением мировоззрения.
В целом, кстати, мне не очень симпатичны американские истории, потому что у американцев исторически выгода стоит на первом месте, об этом писали еще Ильф и Петров в романе «Одноэтажная Америка», написанном в 30-е годы по итогам их поездки по США. И этот принцип остается базовым для американского общества, бизнеса и политики.
Мой личный опты работы в очень крупной структуре финансового сектора экономики дал мне возможность взглянуть на построение управления и принципами этого управления.
Первое, что бросается в глаза и, кстати, является массовой историей, поскольку подтверждается личным общением с друзьями, кто работает в крупных корпорациях в различных секторах экономики, это создание постоянного стресса для сотрудников. Это происходит путем постоянных реорганизаций внутри компании, когда люди переживают оставят ли их на работе или нет, чем они дальше будут заниматься, изменится ли функционал. То есть перетряхивание внутренней структуры с изменением функционала происходит перманентно, что держит коллектив в состоянии стресса как рядовых работников, так и руководителей всех уровней. Если не меняется структура, меняется система оплаты труда, пересматривается основание и порядок премирования. При этом это состояние подавляет волю большинства, особенно тех, кто очень переживает за свое рабочее место, создает нездоровые внутренние отношения в коллективе, порождая сплетни, пересуды и даже вражду, работники начинают следовать своим домыслам, что кто-то займет более выгодную позицию в ущерб другому, одновременно сильно амбициозные работники начинают игру, чтобы пролезть наверх, идут по головам и т. д.
Второе – постановка целей и задач подразделения. Возьмем для примера структуру Департамента крупной компании, Департамент – это 100 человек, внутри департамента – 3 Управления по 30 человек, а в каждом Управлении – по 3 отдела по 10 человек. Функционал Департамента чаще всего носит очень широкий характер, и такая разбивка на внутренние подразделения в принципе оправдана. Постановка целей и задач по новым иностранным веяниям осуществляется по системе КПЭ (ключевые показатели эффективности, чаще всего они имеют цифровое выражение), эти показатели формируют двумя способами: директивно сверху (неправильный по классике этой системы) или через обсуждение всеми руководителями Департамента (начальники отделов, заместители, начальники управлений, замы, начальник департамента и его замы), такое мероприятие проводится раз в год или раз в полгода и представляет собой очень длительное совместное обсуждение, начинающееся с того, для чего наш Департамент вообще существует, каких целей нужно добиться Департаменту, исходя из них, какие цели должно достичь каждое управление и каждый отдел (декомпозиция целей). Но происходит следующее: чтобы показаться полезными или по причине наличия кросс-функционала (когда задачи одного подразделения зависят от задач другого) Управления и отделы набирают новые дополнительные задачи, которые идут в дополнение к текущим (текущие задачи – задачи, выполняемые на постоянной основе в соответствии с функционалом), что в любом случае несет дополнительную нагрузку на всех сотрудников и по факту получается, что по результатам такого обсуждения (а оно может длится день или даже два) руководители сами себе и своим подчиненным нарезали новых непонятных задач в угоду системе КПЭ. Система КПЭ, может, и не плоха как вид некоего контроля и целевого ориентира для подразделения, но на практике превращается в перегруз деятельности, а поскольку такие обсуждения происходят между руководителями, то подчиненные, узнав о своих новых целях и задачах, как правило, расстраиваются. Отчеты по результатам выполнения КПЭ иногда носят формат натянутых показателей.
Третье – иностранная литература. Руководство само читает и настоятельно рекомендует руководителям среднего звена читать иностранные книги такие как «Атлант расправил плечи» (антиутопия про США), «Стратегия голубых океанов» – развитие бизнеса через создание новых рынков, то есть навязывание потребностей потребителей и их удовлетворение и другие, которые сейчас не помню. Если честно, я не могу оценить результат чтения руководством данных книг, потому что не наблюдал какие-либо принципиальные изменения, хотя, может, это влияние не может быть очевидным. Сам я эти книги полностью не читал, ограничившись общим описанием из интернета.
Четвертое – принцип «выйти из зоны комфорта», используется не так часто, но тоже навязывается и заключается в том, чтобы создать некомфортные и стрессовые условия для работников, в которых они должны внутренне мобилизоваться и делать больше и лучше свою работу. С учетом того, что в моем подразделении всегда был перегруз работой и, когда на обучающем мероприятии нам, руководителям, долго пиарили этот принцип как супер инструмент управления, я спросил, а что делать, если сотрудники никогда не находились в зоне комфорта? Куда им выходить? Может сначала ее создать нужно? Ответ ведущего был очень размытым и сводился к повторению того, что если мы не делаем сверхусилий, то значит, мы в зоне комфорта, хотя сами можем этого и не понимать.
Милостью Божьей моими непосредственными руководителями всегда были очень грамотные и хорошие по человеческим качествам люди, у которых я многому научился и которым до сих пор благодарен. Поэтому этот принцип в моем подразделении не использовался даже близко, мы наоборот берегли работников, устраняли лишние мелкие задачи, сокращали бюрократические этапы прохождения документов (в нашем Управлении любой рядовой сотрудник мог зайти к начальнику Управления и что-то спросить или отдать выполненную работу, в то же время во многих управлениях начальник Управления общался преимущественно с начальниками отделов, их замами и избранными рядовыми сотрудниками).
Пятое – влияние иностранных консалтинговых компаний на работу российских. Видимо, исторически участь российского народа – приглашать западных специалистов и доверять им решение наших проблем. Модное явление крупного российского бизнеса до санкций, связанных с проведением СВО, – приглашать западные консалтинговые компании (Делойт, Маккензи, Аксенчер, Эрнст энд Янг и т. д.) для улучшения своей работы, но заканчивается это очень часто ничем или ухудшением внутреннего климата в коллективе компании. Живой пример: в целях совершенствования структуры нескольких Департаментов пригласили иностранных консалтеров. Они долго выясняли, чем занимается каждое подразделение каждого Департамента, каждое управление, каждый отдел, долго вникали в функционал и способы реализации этих функций, анализировали горизонтальные связи между Департаментами. На общих совещаниях при этом было заметно, что они не вникают в детали, которые имеют иногда очень важное значение, и не могут полноценно понять подфункции подразделения. Одним из вопросов их работы стоял вопрос штатной численности Департамента, в котором я работал. Как я говорил, в нашем Департаменте всегда был перегруз работой во всех Управлениях – где-то меньше, где-то больше, но перегруз был у всех. Иностранцы стали засекать время на выполнение функций, что-то там считали, меряли работу количеством исходящих или входящих документов и т. д., но по итогу сделали заключение, что мы – бездельники и нас можно сократить на 10 %… Разбираясь в деталях, я понял, что они все оцифровали и простыми цифровыми манипуляциями выявили, что условно на выполнение средней функции по одному документу одному сотруднику требуется 1 час, поделили 8 часов рабочего дня на документы и человек и вышло, что один человек за 8 часов делает у нас не 8 документов, а всего 6, то есть можно сократить.
На совещании я возражал как мог, пытался воззвать к здравому смыслу, что не учтено время, которое сотрудник тратит на визит к начальникам (можно потратить от 1 до 2 часов в день), не учтено время на телефонное общение по делам, не учтено время на санитарные нужды, не учтено время на личные звонки и смс (тут меня вообще освистали, сказав, что это перебор, но я ссылался на то, что происходит в реальности, а не в идеальном цифровом мире, мы не можем лишить работника права писать или звонить своему ребенку после школы, своим родителям и т. д.), не учтено время на обед, не учтено время на иные заминки (допустим, не работает компьютерная программа по регистрации документов, и пока сотрудник и специалисты решают эту проблему, время работы уходит).
В итоге трудозатраты не пересчитали, сославшись на то, что это крутая иностранная методика и она везде дает успех, а я никто, чтобы с ней спорить, но дали 10 % рабочего времени на иные нужды, и в итоге штат нужно было совратить не на 10 %, а на 5 %. Я очень сильно переживал эту ситуацию, потому что как руководитель не смог до конца отстоять интересы коллектива, штат которого для комфортной работы нужно было увеличивать, а не уменьшать, но мой начальник меня воодушевил – сказал, сократим вакантные места, потом что-нибудь придумаем, чтобы увеличить штат. Для подтверждения своих аргументов я в то время делал «фотографию рабочего дня», хотя мои трудозатраты как руководителя никто не считал, но я это делал, чтобы хоть как-то обосновать ошибки такого расчета. Две недели честно поминутно записывал весь свой рабочий день с момента входа в кабинет и включения компьютера. Кстати, сам инструмент «фотография рабочего дня» неплохой, мне лично он помог немного отстроить мои временные затраты, хоть не сильно их сократив, но сделав более размеренным решение рабочих задач, я иногда такое рекомендую тем, у кого большой перегруз по работе, но «фотография» должна быть честной: если листал соцсети в телефоне – так и надо писать, тогда и оценка объективная будет.
Кстати, знакомая врач-педиатр поделилась, что наш институт ВШЭ (Высшая школа экономики), который также консультирует многие крупные компании и госорганы, провел аналогичную работу и по результатам вывел, что время приема одного пациента в московских детских поликлиниках – 15 минут, когда мы разговорились, оказалось, что методика такая же – цифры и усреднение, не учтено время на посещение врачами главврача поликлиники, работу с медкартой, анализ результатов диагностических исследований и многое другое, поэтому два варианта: либо формальный прием для галочки в отведенное время, либо очереди, за которые врачей стали наказывать, тем самым склоняя их к быстрой и формальной работе с детьми.
Не знаю, как сейчас, но 3–4 года назад в финансовом секторе у топ-менеджеров и даже руководителей госорганов было очень популярно обучение у Ицхака Адизеса, он проводил сессии, очень дорогие, попасть туда считали за большой успех. Чему он там учил и как, я не знаю, поэтому и не могу высказаться, но улучшения комфорта или смягчения ситуации в организации я не заметил.
В Интернете я прочитал, что к «бирюзовым» компаниям относят российский N-банк. Это технологичный банк, в котором многие процессы выстроены по четким алгоритмам и реализуются программным обеспечением. И все хорошо пока у человека – реального клиента банка – не возникнет какая-то проблема или нестандартная ситуация, потому что эту ситуацию будет решать робот, не человек, а программа, в которой есть просто некие алгоритмы, и, как правило, робот не может решить вопрос, ограничиваясь какими-то шаблонными ответами не релевантными ситуации. Это проверено с несколькими банками такого типа.
Кроме того, то ли в этом, то ли в другом тоже технологичном банке (в каком именно не помню уже, но думаю, что это не так важно) были мои коллеги, там свободная атмосфера: стоит кальян, пуфики, игровые приставки, есть комната с настольным теннисом, аквариум с рыбками, приглушенный свет, у многих нет закрепленных рабочих мест – бери ноут и работай, где хочешь.
Когда спросили, а как вы рассматриваете обращения клиентов, – коллегам показали ноут, на котором идут заявки, и ответы на них формирует программа, а человек просто может следить за процессом и корректировать, если нужно, но в реальности это не делается, потому что обиженные клиенты не несут финансовых рисков для банка, руководство до серьезных проблем не будет вмешиваться и ориентировать сотрудников на детальный анализ ответов этой программы, а сотрудникам интереснее поиграть в приставку, в теннис, покурить кальян. Мне кажется, такой подход формирует у этих работников потребительское отношение к клиентам банка, то есть не как к людям, а как к обезличенной массе, которая является инструментом зарабатывания денег банком.
Я хотел поделиться своим опытом, потому что считаю, что все это в той или иной степени ломает нормальное мировоззрение человека, который находится в должности рядового сотрудника и в должности руководителя, формирует негативные качества, уводит с христианского пути развития человека. Вопрос, как остаться человеком в реалиях современного офиса и корпоративной среды, очень актуален для жителей крупных городов, особенно Москвы и Санкт-Петербурга, в регионах, по моим наблюдениям, все эти новые извращения не так сильно распространяются.