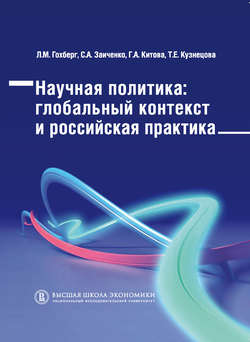Читать книгу Научная политика. Глобальный контекст и российская практика - Группа авторов - Страница 4
Глава 1
Государство и наука: мировая практика и тенденции взаимодействия
1.2. Цель и ракурс анализа
ОглавлениеК началу мирового кризиса 2008–2009 гг. взаимодействие государства и науки характеризовалось безусловным приоритетом этой сферы в национальных системах государственного регулирования практически всех развитых стран. Эго стало закономерным следствием нараставшего в последние десятилетия вклада науки в социально-экономический прогресс, ее превращения в ключевой фактор экономического роста, успеха и процветания. Правда, реализовать новый потенциал науки (т. е. извлекать своего рода «научную ренту» и «трансформировать» ее в инновационное развитие и рост конкурентоспособности) удалось только тем странам, которые создали эффективные механизмы непрерывного воспроизводства и распространения знаний, их коммерциализации, воплощения в инновационные продукты и услуги.
Реализация этого потенциала была обеспечена:
• интенсивным ростом инвестиций в образование, ИР, технологические, организационно-управленческие, маркетинговые, экологические и социальные инновации, эффект которых проявляется не столько в результате непосредственного первоначального их внедрения, сколько за счет последующего широкого распространения и практического применения инновационных продуктов, услуг, технологий;
• формированием и развитием институтов, обеспечивающих эффективное функционирование НИС;
• структурными сдвигами в экономике, связанными, в частности, с опережающей динамикой сектора интеллектуальных услуг и других секторов сферы услуг, а также высокотехнологичных отраслей промышленности; ростом инновационной активности во всех секторах экономики (включая средне-и низкотехнологичные); появлением новых видов экономической деятельности (например, услуги интернет-провайдеров, электронная торговля, производство контента и т. п.).
Условием и стимулом этих и иных трансформаций, во многом обеспечивших в последние десятилетия устойчивость развития стран – традиционных экономических лидеров, их конкурентоспособность и высокий уровень жизни населения, стала, как уже отмечалось, деятельность государства в сфере науки, технологий и инноваций. Это выделило ее среди прочих направлений политики, придало особый статус и приоритет, предопределило необходимость практически непрерывного совершенствования и развития ее моделей и методов, поиска новых инструментов, анализа и учета последствий и эффектов реализации.
Одним из основных индикаторов рейтинга науки и научной политики в системе целей и приоритетов социально-экономического развития страны считается отношение внутренних затрат на ИР к ВВП, причем принимается во внимание не только вариация этого показателя между отдельными странами, но и его динамика. Так, за период с 1995 по 2007 г. в Израиле рассматриваемая величина выросла с 2,62 до 4,65 %, на Тайване – с 1,72 до 2,58 %, в Сингапуре – с 1,15 до 2,31 %. Хотя докризисная динамика данного индикатора и стимулировалась усилением зависимости между вложениями в науку и конкурентоспособностью, ее конкретные параметры определялись теми усилиями, которые предпринимались в тех или иных странах с целью поддержки и развития науки, технологий и инноваций.
Следует подчеркнуть, что в каждой стране проявление связи между расходами на науку и конкурентоспособностью зависит от выполнения целого ряда дополнительных требований и условий: качества институтов государства и рынка, последовательности и системности государственной политики, благоприятности делового климата, состояния и технологического уровня национальной экономики и др.
Ключевая роль науки и инноваций в долгосрочном экономическом развитии – как фактора повышения производительности, конкурентоспособности, средства достижения социально-экономических целей – подтверждена многочисленными исследованиями, отражена в различных национальных и международных программах. В то же время количественные оценки влияния затрат на науку на экономический рост заметно различаются в зависимости от рассматриваемых временных отрезков, стран, секторов, компаний, а также от используемых при расчетах моделей, подходов, гипотез, особенностей статистического учета и т. д. Более того, иногда количественно измерить эту зависимость не удается. Тем не менее ее наличие, так или иначе, подтверждают все исследования. Их результаты с определенной долей условности свидетельствуют о том, что увеличение затрат на науку (инновации) на 1 % продуцирует рост ВВП в интервале от 0,05 до 0,15 % [Economic Survey, 2006; European Competitiveness Report, 2001, 2003].
Наглядной иллюстрацией усилий, предпринятых в последние годы ведущими странами с целью развития науки и инноваций, может служить Лиссабонская стратегия Европейского союза (ЕС), принятая в 2000 г. с целью превращения региона к 2010 г. в самую конкурентоспособную, динамичную и инновационную экономику мира [Lisbon European Guncil, 2000]. Разработка, реализация и корректировка этого документа осуществлялись с учетом принципиальной несопоставимости уровней научно-технологического развития стран – членов ЕС, отсутствия опыта не только контроля, но и координации национальных политик в сфере науки и инноваций.
Хотя говорить о существовании единой европейской научной политики пока преждевременно, к началу мирового кризиса 2008 г. она была представлена не только национальными моделями, но и наднациональными (межгосударственными) мерами по укреплению, координации и интеграции национальных исследовательских программ с общеевропейскими; по поддержке технологических платформ, исследовательских сетей, академической мобильности студентов и ученых (особенно молодых) и др. Формирование и реализация общеевропейской научной политики осуществлялись методом «открытой координации», предусматривающим обмен лучшим опытом в различных формах, развитие научно-технической кооперации, обеспечение контроля за исполнением принятых решений. Становление единого общеевропейского научно-технологического пространства происходило на основе рамочных программ ИР, относящихся к начальным, доконкурентным стадиям инновационного цикла, связанным с производством, накоплением и распространением знаний.
Докризисный опыт промышленно развитых стран мира наглядно продемонстрировал, что эффективность национальных моделей научной политики зависит не только от масштабов государственной поддержки науки, но и от содержания такой поддержки, ее адекватности конкретно-историческим условиям (в том числе особенностям национальной науки), взаимной согласованности и комплексности используемых инструментов, обоснованности представлений о позиционировании страны на глобальном рынке (в том числе в его высокотехнологичном сегменте) и др.
При всем разнообразии таких моделей их объединял целый ряд общих признаков и условий, часть которых перечислена во введении[13]. Ключевым среди них представляется расширение рамок государственной научной политики за счет перехода от прямого субсидирования фундаментальных и отдельных прикладных исследований (как правило, в некоторых секторах экономики: военной сфере, здравоохранении, сельском хозяйстве и др.) к комплексной поддержке инновационного цикла в целом, включая его заключительные стадии, связанные с коммерциализацией и распространением научных результатов и технологий.
Этот процесс можно трактовать и как постепенную трансформацию собственно научной политики в звено (или этап) инновационной политики[14], ее органичное встраивание в систему национальных целей и приоритетов развития, инструментов роста конкурентоспособности страны и обеспечения ее безопасности. Причем вариация последовательности, интенсивности и проявлений подобной тенденции между отдельными странами весьма значительна. Наряду с некоторой утратой «самостоятельности» (в указанном смысле), сопровождающейся изменениями и новациями национального законодательства и системы государственного управления, современная научная политика характеризуется:
• усилением стратегической ориентации на долгосрочные цели;
• децентрализацией процесса разработки и реализации;
• комплексностью инструментов;
• динамизмом и гибкостью, обеспечивающими оперативность реакции на изменения внешних факторов и условий, в частности на сдвиги в развитии глобальных высокотехнологичных рынков;
• идентификацией малых и средних организаций в качестве ее самостоятельного объекта и др.
Указанные особенности научной политики развитых стран представляют своего рода фон для диагностики ее докризисной модели в России, оценки основных параметров этой модели, ее проблем и перспектив. Необходимость обращения к национальным практикам и компетенциям в рассматриваемой области продиктована глобальным кризисом 2008–2009 гг., проявления которого в России наглядно продемонстрировали динамику ее интеграции в мировое экономическое пространство, а также интернационализации различных аспектов развития в условиях обострения конкуренции на рынках продуктов, услуг и технологий (особенно высокотехнологичных и инновационных).
Выбор ракурса и акцентов анализа зарубежного опыта в настоящей работе определялся тем, что на протяжении последнего десятилетия (как до кризиса, так и сегодня) Россия пытается добиться устойчивой динамики и повышения конкурентоспособности экономики при неблагоприятных стартовых условиях – преимущественно сырьевая экономика, ее структурные диспропорции, технологическая отсталость, несовершенство рыночных и государственных институтов, низкая в целом инновационная активность предприятий и т. д.
Научная политика развитых стран, в существенной степени обеспечившая не только их лидерство в глобальной экономике, но и минимизацию негативных последствий недавнего мирового кризиса, представляет для России несомненный интерес и в качестве ориентира для выбора вектора и направлений совершенствования ее отечественной модели в посткризисный период, в том числе за счет заимствования отдельных методов и инструментов.
Для идентификации российской модели научной политики, сложившейся к 2008 г., и обоснования рекомендаций по ее обновлению и дополнению (в том числе и за счет усвоения уроков кризиса) следует учитывать релевантный опыт как традиционных лидеров мировой экономики, так и новых индустриальных государств. Если к первой группе принадлежат, прежде всего, США, Япония и ряд европейских стран, то ко второй – страны, сумевшие добиться существенного роста своей конкурентоспособности относительно недавно и в исторически сжатые сроки (Южная Корея, Израиль, Чили, Тайвань, Малайзия, Китай и др.). Целесообразность подобного разграничения определяется, на наш взгляд, следующими обстоятельствами.
Условия формирования и реализации научной политики в США и Европе – эволюционность, наличие благоприятного делового климата, масштабы и качество национальных систем образования и науки, развитость и эффективность институтов, традиции государственного регулирования – во многом обусловили ее ключевые характеристики, к которым можно отнести комплексность, интегрированность в систему национальных целей, значимый вклад в их достижение. Несопоставимость этих условий с российскими очевидна, в связи с чем любые сравнения соответствующих моделей – по набору используемых инструментов, финансовым ресурсам, эффективности и иным параметрам – оказываются весьма условными, а возможности заимствования лучшей практики – ограниченными.
Что касается новых индустриальных стран, то их успехи к началу XXI в. стали результатом поиска нестандартных инструментов научной политики, способных обеспечить высокие темпы экономического роста и рывок в рейтинге мировой конкурентоспособности при жестких внешних ограничениях. Они проявлялись в остром дефиците ресурсов (финансовых, кадровых, организационных и др.), существенной неполноте и фрагментарности НИС и рыночных институтов, высоких политических и инвестиционных рисках и т. д. [Об использовании в России опыта новых индустриальных стран… 2004; Яковлев, 2006; The State, Markets and Development, 1994]. Ценность этого опыта для России состоит в демонстрации возможности форсированного прогресса динамики и качества экономического роста, инновационной активности, конкурентоспособности при внешних условиях и ограничениях, в той или иной степени аналогичных российским.
В самом широком смысле под институтами подразумеваются формальные и неформальные рамки политического, экономического и социального взаимодействия. В этом контексте институтом роста (развития) может стать любая структура (инструмент, механизм), снижающая неопределенность в системе и стимулирующая более эффективную экономическую деятельность. Такие институты (включая их существующие и конструируемые элементы) способны оказать позитивное влияние на экономический рост только в случае их соответствия сложившемуся культурно-историческому и политическому контексту. Другими словами, институты, эффективные на этапе становления развивающейся экономики, могут оказаться не работающими на последующих этапах развития, и наоборот. Очевидно, что их вклад неразрывно связан со стратегиями институционального развития. В более узком понимании институты – это отдельные организации и процедурные механизмы, и экономическому прогрессу способствуют только те из них, которые позволяют реализовать эффективные управленческие решения. Таким образом, эти институты являются средой и одновременно инструментом государственной политики развития.
В мировой практике чаще всего идентифицируются такие институты развития, как качественное управление (низкая коррупция, гарантии политических прав, управляемость государственного сектора); однозначные и четкие законодательные рамки; эффективная система прав частной собственности (нормы права и уровень их соблюдения); прозрачный коридор политических решений (институциональные рамки политических решений, делающие их предсказуемыми и определенными). Например, на международном уровне к институтам развития чаще всего причисляют различные экономические и кредитно-финансовые организации, ориентированные на поддержку институциональных и прочих реформ (на глобальном и региональном уровнях). Как правило, ими инициируются или поддерживаются проекты, требующие масштабных ресурсов.
При более узкой трактовке выделить или структурировать институты развития достаточно сложно. Влияние отдельных организаций и норм на развитие в этом случае гораздо более индивидуально и зависит не только от траектории экономического роста, но и текущих «координат» на ней [North, 1990; Glaeseret al., 2004].
В новых индустриальных странах (в отличие от традиционных лидеров мировой экономики) собственно научная политика позиционировалась исключительно как составная часть инновационной, практически не отделялась от нее и была жестко подчинена задаче реализации экономических целей. Производный в указанном смысле характер собственно научной политики объяснялся особенностями развития этой группы стран, отсутствием исторически сложившихся, институционально и организационно оформленных крупномасштабных научных комплексов. Становление сектора ИР происходило в них в чрезвычайно сжатые сроки и диктовалось необходимостью достижения национальных целей, связанных, например, с улучшением темпов и качества экономического роста, завоеванием отдельных ниш мирового рынка (в том числе его высокотехнологичных сегментов).
Так, всего за 12 лет (с 1995 по 2007 г.) по численности персонала, занятого ИР, в расчете на 10 тыс. занятых в экономике Тайвань обогнал Россию, а Сингапур и Южная Корея вплотную приблизились к ней (160, 120, 103 и 135 человек соответственно), но уже опередив нашу страну по аналогичному показателю для исследователей. Однако, несмотря на столь впечатляющую динамику, научные комплексы вышеназванных стран по-прежнему не сопоставимы с российским[15]. Это проявляется в вариации абсолютных размеров и масштабов присутствия государства, различиях институциональных моделей, спектра проводимых ИР, их стадийной структуры и т. д. В частности, по абсолютной численности занятых в науке в 2007 г. Россия превосходила Южную Корею в 3,8 раза, Тайвань – в 5,7, а Сингапур – в 30 раз. По численности исследователей этот разрыв составлял 2,3; 4,9 и 18,7 раза соответственно. В то же время по объему внутренних затрат на науку Россия в 2006 г. уступала Южной Корее (в 1,8 раза), незначительно опережала Тайвань и более чем в четыре раза – Сингапур. Доля Тайваня, Южной Кореи и Сингапура на мировом рынке высокотехнологичной продукции оценивалась в 2007 г. в интервале от 4 до 8 %, а России – 0,3 %.
Докризисная модель научной политики новых индустриальных стран была представлена наборами достаточно специфических для каждой из них инструментов и механизмов, отвечавших конкретно-историческим условиям их развития, встроенным в стратегию и тактику достижения национальных целей, связанных с экономическим ростом, конкурентоспособностью. Она заслуживает внимания и потому, что эти государства продемонстрировали особенности реализации научной политики в рамках стратегии «догоняющего» развития, ориентированной на копирование постиндустриальных тенденций[16]. Несмотря на известные достижения, перспективы перехода новых индустриальных стран к постиндустриальному обществу и экономике, основанной на знаниях, оцениваются экспертами весьма скептически, что, в сущности, тождественно утверждению о неустранимости их отставания от лидеров мировой экономики, осуществивших этот переход эволюционно [Голиченко, 2010; Иноземцев, 1998, 2000; Яковец, 2003; BRICS and Development Alternatives, 2009][17].
В свете практически непрерывных в последнее десятилетие призывов к совершенствованию отечественной научной политики с целью ее превращения в реальный рычаг форсированного перехода страны к новой экономике (и/или с целью преодоления последствий финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг., решения задач модернизации отечественной экономики и т. д.) опыт новых индустриальных стран по разработке и реализации научной политики, встроенной и подчиненной стратегии «догоняющего» развития постиндустриальных экономик, представляет для России несомненный практический интерес и заслуживает особого внимания.
13
См.: [Managing National Innovation Systems, 1999; National Systems of Innovation, 1994; Strategies for Sustainable Development, 1994; The State, Market and Development, 1994; OECD Science, Technology and Industry Outlook, 2008] и другие источники.
14
А в отдельных случаях – инновационно-промышленной политики. При этом научная политика не растворяется в инновационной, сохраняя специфику целей, инструментов и механизмов. Происходит, скорее говоря, взаимная координация, пересечение, сближение научной и инновационной политики.
15
За исключением Китая, научный комплекс которого в 2007 г. был уже значительно больше российского: по численности персонала, выполняющего ИР, – в 1,6 раза, исследователей – в 2,6, объему внутренних затрат на ИР – почти в 4 раза и т. д. В последующие годы разрыв еще более увеличился.
16
Альтернативным вариантом «догоняющего» развития является стратегия опоры преимущественно на собственные силы. Подобный вариант с той или иной степенью последовательности реализовывался в различные периоды XX в. Германией и странами социалистического лагеря [Иноземцев, 1998,2000].
17
Эти вопросы будут подробнее рассмотрены ниже в параграфе 2.4.