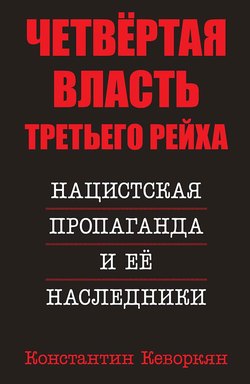Читать книгу Четвёртая власть Третьего Рейха. Нацистская пропаганда и её наследники - Константин Кеворкян - Страница 13
Часть III
Прикладная пропаганда
11. Работа с аудиторией
ОглавлениеОдин из факторов популярности Гитлера в своей стране состоял в том, что большинство жителей Германии имели хотя бы теоретическую возможность повидать его лично на массовых мероприятиях и таким образом соприкоснуться с его аурой, стать «ближе» к нему. В первые месяцы 1933 года под окнами рейхсканцелярии регулярно собирались толпы, которые громогласным хором изъявляли желание увидеть фюрера. И тому ничего не оставалось делать, как периодически появляться перед публикой к ее немалому удовольствию. Очевидец одной из подобных встреч вспоминал: «Я помню жителей Линца, которые, выстроившись перед гостиницей, непрерывно кричали до поздней ночи: «Один народ, один рейх, один фюрер» или «Мы хотим видеть нашего фюрера». Тем временем группа людей скандировала: «Любимый фюрер, будь так любезен, подойди к подоконнику». И Гитлер появлялся перед ними вновь и вновь» (1).
Важность такого периодического общения ощущал и сам рейхсканцлер. На партийном съезде 1936 года он воскликнул, обращаясь к собравшимся: «Когда мы собираемся здесь, нас охватывает чувство чуда этой встречи. Не каждый из вас видит меня, и не каждого из вас вижу я. Однако я чувствую вас, а вы чувствуете меня! Вера в наш народ сделала нас, маленьких людей, – великими, сделала нас, бедняков, – богатыми, сделала нас, робких, потерявших мужество, запуганных людей, – смелыми и отважными, дала заблуждавшимся прозрение и объединила нас» (2).
Еще в августе 1920 года Гитлер, рассуждая о перспективах партийной пропаганды, сказал, что его целью является использование «тихого понимания», чтобы «разжечь и подтолкнуть… инстинктивное». «Способность восприятия масс очень ограничена и слаба, – писал он в «Майн Кампф». – Принимая это во внимание, всякая эффективная пропаганда должна быть сведена к минимуму необходимых понятий, которые должны выражаться несколькими стереотипными формулировками. Самое главное: окрашивать все вещи контрастно, в черное и белое» (3). Соответственно, сами лозунги должны быть простыми, обладать способностями к бесконечным повторам и вариациям, иметь эмоциональную широту, которая позволяет каждому индивиду приписывать ему свои собственные ценности. «Когда все эти условия соблюдены, даже стенографический знак может воплотить в себе целую программу» (4).
Наглядным подтверждением тому служит история рождения нацистского лозунга (или приветствия) «Зиг хайль!» (Да здравствует победа!) После одного из выступлений перед огромной аудиторией Гитлер на какое-то время задумчиво замолчал, и в этот момент стоявший рядом Гесс, находясь под впечатлением от речи фюрера, вдруг начал скандировать: «Зиг хайль!» Многотысячная толпа тут же подхватила лозунг, который позже прочно закрепился в обиходе Третьего рейха (5). «Первое сформулированное внушение тотчас передается вследствие заразительности всем умам, и немедленно возникает соответствующее настроение» (Ле Бон).
Психологическое заражение аудитории во время массовых акций проистекает как результат удачных, убедительных речей, например, когда персонаж «режет правду-матку» и яростно обличает виноватых. Для повышения эффективности речь изукрашивается и инсценируется, по сути, она – произведение искусства, которое предназначено для восприятия слухом и зрением, причем слухом – вдвойне, поскольку шум толпы, ее рукоплескания, гул недовольства и чувство единения действуют на отдельного слушателя с той же силой, что и сама речь. Заражение происходит, поскольку в толпе индивид менее склонен обуздывать и скрывать свои инстинкты – толпа анонимна и не несет никакой ответственности. Вопрос в пробуждении инстинктов.
Для полного достижения данной цели необходимо тщательно учитывать особенности аудитории. Таковыми являются состав слушателей, уровень их подготовки, интересы, социальное положение, пол, возраст, мотивы их участия во встрече. Особое значение имеют в связи с этим этнические и религиозно-культурные особенности аудитории. Мужчин в процессе общения интересует, прежде всего, доказательность, логика, факты. Их внимание привлекают примеры из истории, политики. На первом месте для них компетентность выступающего. Для женщин большое значение имеют эмоциональная сторона дела, проявление человеческих качеств. Их внимание сразу привлекают примеры, касающиеся семьи, детей, мужчин, быта (6). Средний человек мыслит, как правило, иррационально, значит, пропаганда должна быть обращена не к разуму человека, а к его эмоциям. Упрощения в пропаганде необходимы, и чем значительнее размер аудитории, тем больше потребность в упрощении. В практической политике действительно большого успеха можно добиться не академическими рассуждениями, а воспламеняющими речами и ударными лозунгами, например «Свобода, Равенство, Братство», «Вся власть Советам!» или «Бандитов в тюрьмы!»
Такие пропагандисты как Гитлер, Геббельс, Штрайхер постоянно держали руку на пульсе народа, в любой момент они могли точно определить, какие лозунги приведут в движение массы, какие слова разожгут воображение толпы. Гитлер: «Я знаю, что завоевать людей можно не столько написанным словом, сколько, в гораздо большей степени, – устным словом, что любое великое движение на этой земле обязано своей мощью именно великим ораторам, а не великим писателям» (7). Его успехи на данном поприще признавали и иностранные наблюдатели. «Таймс» 25 марта 1939 года констатировала: «Действительно, Гитлер является одаренным пропагандистом. Он знает, что нетренированная память слушателя повторяет его мысли, и из этой слабости он извлекает максимальную выгоду. В своих комментариях о массе он так же циничен, как наши собственные авторы рекламных текстов» (8).
«Меня часто спрашивают, в чем секрет необыкновенного ораторского таланта Гитлера. Я могу объяснить его лишь сверхъестественной интуицией Адольфа, его способностью угадывать желания слушателей, – рассуждал долгое время близкий к нему Эрнст Ханфштангль. – Вот Гитлер входит в зал. Принюхивается. Минуту он размышляет, пытается почувствовать атмосферу, найти себя». От себя добавим: пауза продолжительностью 5–7 секунд и внимательный взгляд на слушателей – первый прием привлечения внимания к оратору. Пауза позволяет аудитории настроиться на восприятие того, что ей предстоит услышать. Возникает и элемент любопытства: «А как он начнет?»
Первые слова Гитлер говорил негромко, словно ища опоры в слушателях. «Начало было монотонным, обычным, чаще всего связанным с легендой его восхождения. «Когда я, безымянный фронтовик, в 1918 году…» Таким формализованным началом он не только еще подстегивал ожидание уже во время самой речи, но и получал возможность почувствовать атмосферу зала и настроиться на нее. Какой-нибудь выкрик из зала мог вдохновить его на ответ или острое замечание, и тогда вспыхивали долгожданные первые аплодисменты. Они давали ему чувство контакта, ощущение восторга, и четверть часа спустя «в него вселяется дух…» (9) «Внезапно он взрывается: «Германия растоптана. Немцы должны объединиться. (Статус обвиняющего всегда воспринимается как более высокий, нежели статус оправдывающегося. – К.К.) Интересы каждого должны быть подчинены интересам всех. Я верну вам чувство собственного достоинства и сделаю Германию непобедимой». Его слова ложатся точно в цель, он касается душевных ран каждого из присутствующих, освобождая их коллективное бессознательное и выражая самые потаенные желания слушателей. Он говорит людям только то, что они хотят услышать». Опытный выступающий умеет создать у каждого слушателя впечатление, что он обращается лично к нему, встречи взглядами в течение нескольких секунд вполне достаточно для взаимопонимания. «Обращаясь к промышленным магнатам, в первые секунды он испытывает то же самое чувство неопределенности. Но вот глаза его загорелись, он почувствовал аудиторию, все в нем перевернулось: «Нация возрождается лишь усилиями личности. Массы слепы и тупы. Каждый из нас лидер, и Германия состоит из таких лидеров». – «Правильно» – слышались возгласы со всех сторон» (10).
Макс Домарус, собравший и опубликовавший речи Гитлера с 1932 по 1945 год, так отозвался о нем как об ораторе: «Свои речи Гитлер почти незаметно для других приспосабливал к конкретной аудитории. Их содержание, может быть, было всегда одинаковым, но он любил менять жаргон, в зависимости от местности или от состава аудитории. Например, если он выступал перед интеллектуалами, университетскими профессорами или студентами, то в первой части он использовал абстрактный стиль, с множеством оговорок – то есть такой стиль, какой нередко применяется в академических аудиториях. Во всех своих речах Гитлер злоупотреблял иностранными словами, но применял их всегда правильно! Эти слова казались ему звучными и особо впечатляющими, а кроме того, способными вызвать симпатии у присутствующих в аудитории специалистов. Даже трудные названия титулов и церемониальные обращения он мог употреблять так же безупречно, как шеф дипломатического протокола» (11).
Эту же мысль подтверждает и Ханфштангль: «Я посетил множество его публичных выступлений и начинал понимать их структуру, которая обеспечивала их привлекательность. Первый секрет заключался в подборе слов. У каждого поколения есть свой собственный набор слов и фраз, которые, если можно так выразиться, отмечают на календаре время мыслей и высказываний, принадлежащих этому поколению. Описывая трудности домохозяйки, у которой недостаточно денег, чтобы купить продукты для своей семьи, он пользовался точно теми же фразами, которые употребила бы эта домохозяйка, если бы могла сформулировать свои мысли. Если от прослушивания других публичных ораторов создавалось болезненное впечатление, что они снисходят до своей аудитории, то у Гитлера был бесценный дар точно выражать мысли своих слушателей». Очень важное замечание, ведь постоянный рефрен, будто Гитлер говорил каждому собранию только то, что оно хотело слышать, лишь поверхностно отражает суть дела. Он выражал чувства тысяч людей – их потрясение, их страх и ненависть, превращая толпу в динамичный фактор политики. Именно глубинная связь с массами позволила Гитлеру подняться над образом уверенного в своих силах демагога и обеспечила ему несравненно больший успех, чем Геббельсу, хотя тот и действовал более тонко и хитроумно (12).
Продолжаем: «У каждой его речи было прошлое, настоящее и будущее. Каждая часть была полным историческим обзором ситуации. В его жестах было что-то от мастерства великого оркестрового музыканта, который вместо простого отстукивания тактов своей палочкой выхватывает в музыке особые скрытые ритмы и значения. Продолжая музыкальную метафору, первые две трети речи Гитлера имели ритм марша, постепенно их темп убыстрялся, и наступала третья, завершающая часть, которая представляла уже скорее рапсодию. Зная, что непрерывное выступление одного оратора может быть скучным, он блестяще изображал воображаемого оппонента, часто перебивая самого себя контраргументами, возвращаясь к исходной мысли, перед тем полностью уничтожив своего гипотетического противника. Все это переплетение лейтмотивов, вычурностей, контрапунктов и музыкальных контрастов с точностью отражалось в модели его выступлений, которые по своему построению были симфоническими и всегда завершались наивысшей кульминацией, похожей на рокот вагнеровских тромбонов» (13).
Речи Гитлера действовали на тщательно подготовленную аудиторию в первую очередь своим ритмом, мелодикой, структурой интонации, достигаемой темпом речи, динамикой, высотой и окраской голоса. Многие слушатели не понимали, что он говорит, но слышали, как он говорит. Тому же Ханфштанглю запомнилось впечатление, которое производил голос Гитлера: «Он говорил со странным акцентом, словно пришелец с баварских гор. И эта окраска голоса сообщала какую-то горнюю отдаленность от привычного: внушала нечто мистическое» (14).
Восприятие слова в большой степени зависит от того, каким тоном оно произнесено. Например, при хорошем расположении духа резонаторы расширяются, голос оратора становится глубже и богаче оттенками. Он действует на других успокаивающе и внушает больше доверия. Исследователи делают вывод, что значительная часть успеха Гитлера как оратора объясняется манерой его речи – с необычными модуляционными способностями, позволявшими ему охватывать голосом 2,5 октавы. Подобные перепады давали возможность подавлять мыслительную функцию в коре головного мозга его слушателей и одновременно активизировалась эмоциональная область ствола мозга. Он был в состоянии в любой момент, чтобы подчеркнуть ритм речи, говорить на частоте колебаний звука между 200 и 300 Герц, хотя его нормальная тональность лежала в диапазоне 160–170 Герц (15). Кроме того, Гитлер всегда внимательно изучал акустику перед выступлением в зале.
Истинное мастерство оратора проявляется также в единстве слова и жеста. Лучший и самый совершенный жест – тот, который не замечают слушатели, так они увлечены содержанием речи оратора, а «жест» вписан в нее. Гитлер использовал ораторскую жестикуляцию, редко встречавшуюся до этого в Германии, которую скопировал у Фердля Вайсса, мюнхенского комедианта, специализировавшегося на выступлениях перед публикой в пивных (16). «Как оратор – удивительное триединство жеста, мимики и слова. Прирожденный разжигатель», – еще на заре их знакомства писал в своих дневниках о Гитлере Йозеф Геббельс. Сегодня установлено, что непосредственно с помощью слов передается 7 % информации, с помощью звуковых средств (включая тон голоса, интонацию и т. п.) – 38 %. На долю жестов, поз мимики говорящего, его внешнего вида и фона приходится 55 %. Словесное общение в беседе дает 1/3 информации, 2/3 – невербальные сигналы (17).
«Меня всегда восхищало, как он играет своими руками, слегка женственными и очень артистичными, – отмечал Уильям Ширер. – Сегодня он работал ими красиво, казалось «говорил» руками, раскачиваясь при этом всем телом, не меньше чем словами и голосом. Я обратил также внимание на его умение использовать мимику, глаза (он их выпучивал), поворот головы для выражения иронии, которой в сегодняшней речи было предостаточно» (18).
Итак, подобно звезде немого кино, Гитлер интенсивно жестикулировал и гримасничал. Но, в отличие от актера, он сам писал свои тексты. Его речи были тщательно подготовлены и произносились по записям, всегда находившимся у него под рукой, но как феномен они рождались все же в импровизации, в обратной связи с аудиторией. Секретарь фюрера Криста Шредер подробно описала технологию их создания: «Шеф, как правило, находился рядом в рабочем кабинете, стоя над письменным столом и отмечая ключевые слова для своей речи. Затем он становился рядом с машинкой и, начиная издалека, диктовал тихим голосом. Он постепенно набирал форму, и речь его становилась быстрее. Безостановочно следовали предложения, тем временем он прохаживался по комнате. Затем его словесный запал иссякал. Едва он приступал в своей речи к рассмотрению проблемы большевизма, им овладевало волнение. Часто у него срывался голос, что происходило и при упоминании Черчилля или Рузвельта. Краснота заливала его лицо, и глаза гневно блестели: он останавливался как вкопанный, будто перед ним непосредственно стоял упомянутый враг. Во время диктовки у меня возникало головокружительное сердцебиение, как будто волнение Гитлера передавалось мне» (19).
Ему требовалось от четырех до шести часов, чтобы набросать общую схему будущего выступления, которую он записывал на 10–12 больших листах, но в конечном итоге каждый лист превращался в 15–20 ключевых слов. Когда приближался час выступления, начинал ходить по комнате взад-вперед, репетируя про себя аргументацию. «Перед официальным выступлением Гитлер стал читать вслух наиболее резкие и действующие на психику немцев места из своей речи, подбирая при этом соответствующие интонации, жесты и мимику» (20).
Репетиции были необходимы, чтобы не терять по ходу выступления визуального контакта с аудиторией, что всегда воспринимается ею как равнодушие оратора к слушателям: «Говорит сам для себя, мы его не интересуем». (То, что мы так часто видим у нынешних политических деятелей.) Затем следовали правки и несколько редакций текста. После сделанных исправлений все следовало перепечатать начисто.
«Его политическая аргументация основывалась на том, что можно назвать «системой горизонтальной восьмерки». Он двигался вправо, критикуя, и поворачивал назад влево в поисках одобрения. Он продолжал обратный процесс и возвращался в центральную точку со словами «Германия превыше всего», где его ждал гром аплодисментов. Он нападал на бывшие правящие классы за предательство своего народа, их классовые предубеждения и феодальную экономическую систему, срывая аплодисменты левых, а затем набрасывался на тех, кто был готов забыть истинные традиции немецкого величия, к восторгу правых. К окончанию выступления все присутствующие были согласны со всем, что он говорил» (21). И, соответственно, под давлением общего мнения, оставшиеся в подавляющем меньшинстве соглашались с внушаемым им суждением.
Гюстав Ле Бон, анализируя данный эффект в своей работе «Психология народов и масс», подчеркивал: «В толпе сознательная личность исчезает, причем чувства и идеи отдельных единиц, образующих одно целое, принимают одно и то же направление. Образуется коллективная душа, имеющая, конечно, временный характер. В толпе всякое чувство, всякое действие заразительно, и притом в такой степени, что индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы интересу общественному» (22).
Кроме продуманной аргументации Гитлер придавал большое значение подчеркиванию ключевых слов. Всегда учитывая в своих выступлениях характер аудитории, Гитлер, тем не менее, производил впечатление волевого неконъюнктурного человека, постоянно употребляя эпитеты «непоколебимый», «решительный», «неумолимый» и «абсолютный»[25].
Тема уверенности оратора в своих силах прослеживается и в «Майн Кампф»: «Масса предпочитает господина, а не просителя. Бесстыдство такого духовного террора масса так же мало сознает, как и возмутительное нарушение своих человеческих свобод» (23). Иначе говоря, толпа склонна доверять человеку, доказавшему свое превосходство, как в силу своего ораторского мастерства, так и высокой нравственности преследуемых им целей. «Толпа никогда не стремилась к правде; она отворачивается от очевидности, не нравящейся ей, и предпочитает поклоняться заблуждению, если только заблуждение это прельщает ее» (24). Однако нацистские пропагандисты вскоре обнаружили, что массы, толпа, народ – не такие глупые, как их порой изображают интеллектуалы; что если к людям с улицы найти правильный подход, если их воспринимать серьезно, а не просто льстить их низменным инстинктам – у массы может появиться чувство жертвенности, великодушия, самоотдачи. (Вспомним хотя бы историю «оранжевого майдана».) «Толпа нередко преступна – это правда, но нередко она и героична» (25).
Установление контактов с новой аудиторией посредством заверений в искренности и объективности также можно рассматривать как один из исходных приемов нацистской агитационной методики. «Он не держится перед толпой с некоторой театральной властностью, которую я наблюдал у Муссолини, он не выдвигает вперед подбородок и не отбрасывает голову назад как дуче, не делает стеклянные глаза. В его манере держаться даже чувствуется какая-то наигранная скромность» (26). Однако в арсенале фюрера наличествовала не только демонстративная скромность, но порою и некая ироничность: «Хотя Гитлер почти целый вечер был беспощаден и источал ненависть, в его речи имелись и юмористические моменты. Слушателям показалось очень смешным, когда он сказал: «В Англии все полны любопытства и без конца спрашивают: «Почему он не приходит?» (Оратор имел в виду самого себя – речь о возможном вторжении в Англию. – К.К.) Спокойствие. Спокойствие. Он идет! Он идет!». И этот человек голосом выжимал каждую каплю юмора и сарказма» (27).
Парадоксом можно считать, что насколько страстные и убежденные речи Гитлера завораживали очень многих его слушателей, настолько бессмысленно утомительными и неприятными оказывались они – часто для тех же самых людей – будучи изложенными на бумаге. На раннем этапе Движения по крайней мере 80 % речей Гитлера являлись импровизацией, в которой, как правило, ему не приходилось себя ограничивать в выборе слов, а реакция слушателей всегда вдохновляла Гитлера на еще более страстные обвинения в адрес своих оппонентов. Однако по мере роста политической популярности и, соответственно, цены каждого сказанного слова Гитлер стал осмотрительнее: «Я больше и лучше выступаю не по бумажке, но теперь, в ходе войны, я должен скрупулезно взвешивать каждое слово, ибо мир наблюдательный и чуткий. Если бы я однажды сказал несправедливое слово, руководствуясь стихийным настроением, это могло бы привести к большим осложнениям» (28).
Речи, которые Гитлер произносил без заготовленной бумажки, следовало тщательно редактировать, и перед публикацией он всегда требовал показать ему вариант, подготовленный для печати, дабы самому внести окончательную правку. Возможно, этим объясняется удивительный парадокс, что, будучи одним из величайших ораторов в истории, Гитлер не оставил ни одного запоминающегося крылатого выражения, точно так же нет ни одного яркого исторического анекдота о нем. Они просто вычеркнуты?
Геббельс откровенно врал, когда в своей классической работе «Фюрер как оратор» отмечал: «Отличительная черта хорошей речи в том, что она не только хорошо звучит, но и легко читается. Речи фюрера – это стилистические шедевры, импровизирует ли он с трибуны, заглядывает ли в короткую записку или читает ее с рукописи в важных международных случаях. Если кто-то не присутствует при этом непосредственно, он никогда не сможет сказать, была ли заранее написанная речь произнесена как неподготовленная, или незапланированная речь произнесена так, словно написана заранее. Его речи всегда готовы в печать» (29). На самом деле речи Гитлера были неудобоваримы для чтения из-за бесконечных повторов, свойственных его ораторской манере, и нуждались в тщательной редактуре (см. выше).
Хотя нам сейчас невозможно представить Адольфа Гитлера воплощением добродетели, но именно в этом состояла тайна его огромной популярности среди его немецких соотечественников. Будто о нем писал Макиавелли: «Пусть тем, кто видит его и слышит, он предстанет как само милосердие, верность, прямодушие, человечность, благочестие, особенно благочестие, так как увидеть дано всем, а потрогать руками – немногим» (30). И волна народной любви к вождю, искусно направляемая, как его собственными усилиями, так и работой Министерства пропаганды, достигала своей кульминации 20 апреля – в день рождения фюрера.
Ему дарили произведения искусства и посвящались оды. Торты с искусными украшениями и надписями, корзинки с деликатесами и прочие продукты питания по личному распоряжению Гитлера мгновенно доставлялись в различные больницы. Канцелярию фюрера заваливали горами комплектов для новорожденных, постельного белья, махровых полотенец, которые, в свою очередь, немедленно раздавались нуждавшимся супружеским парам.
Культ фюрера настолько проник в женское сознание, что женщины в его присутствии падали в обморок от восторга: «Сегодня около десяти часов вечера я оказался в толпе из десяти тысяч истериков, которыми был запружен крепостной ров перед отелем Гитлера. Они кричали: «Мы хотим нашего фюрера!» Я был слегка шокирован лицами этих людей, когда он появился на минуту на балконе. Они смотрели на него как на мессию, в их лицах появилось явно что-то нечеловеческое. Думаю, задержись он чуть подольше, большинство женщин попадали бы в обморок от возбуждения» (Уильям Ширер).
Конечно, главному герою культа тоже приходилось нелегко, а порою и неловко, но уж не нам его жалеть. Так, когда Гитлер выходил из туалета, «в коридоре уже было полно людей, и он должен был проходить словно сквозь строй до своей комнаты с поднятой рукой и несколько вымученной улыбкой». (Криста Шредер)
Если во время Нюрнбергских партийных съездов из-за туч выглядывало солнце, толпа приходила в восторг и кричала: «Погода фюрера!» Поскольку так получалось, что на дни его массовых митингов всегда выпадала хорошая погода, в народе прижилось выражение «гитлеровская погода». Однако самого Гитлера глубоко беспокоили счастливые атмосферные совпадения. Он боялся, что эта вера глубоко укоренится в народе, а неизбежные изменения подорвут его репутацию. Великий демагог прекрасно понимал, насколько может быть неустойчиво настроение толпы. «Высказанное подозрение тотчас превращается в неоспоримую очевидность. Чувство антипатии или неодобрения, едва зарождающееся в отдельном индивиде, в толпе тотчас превращается у него в самую свирепую ненависть». (Гюстав Ле Бон)
Вторым по значению оратором Третьего рейха значился, безусловно, Йозеф Геббельс. И в силу своей должности руководителя нацистской пропаганды, и по неоспоримому таланту. Сам Гитлер признавал, оценивая своих соратников: «Я слышал их всех, но единственный человек, которого я могу слушать не засыпая, – это Геббельс. Он действительно умеет произвести впечатление». В устах серьезного профессионала такая оценка дорогого стоит.
Еще на заре национал-социализма, подстрекая берлинцев к недовольству республикой, Геббельс использовал язык, который называл «новым и современным, не имеющим ничего общего с устаревшими выражениями так называемых расистов». Он применял простые, но меткие метафоры и сравнения, сразу доходившие до слушателей. Все его речи пронизывал повелительный тон, призывы полагаться на силу и помнить об обязанностях. Они пестрят выражениями типа: «Продвинем вперед наше движение!»; «Вперед, ломая сопротивление врагов!»; «Мы маршируем, и будем биться стойко и самоотверженно!»; «Массовая пропаганда – наше главное оружие!», создающими настроение постоянной активности, борьбы и движения к цели.
Порою речи Геббельса рождали ощущения, что их извергает исступленный фанатик, но в действительности «маленького доктора» никак нельзя назвать человеком с буйным темпераментом. Геббельс был прилежен, трудолюбив, крайне педантичен, а приверженность партийной доктрине сочеталась в нем с широким кругозором и ясным умом. А эмоциональное нагнетание необходимо профессиональному оратору для поддержания у человека постоянного интереса к тому, о чем рассказывает пропаганда, и чтобы информация легче входила в подсознание. Когда говорят эмоции и чувства, разум молчит. Возбужденный человек гораздо легче совершает необдуманные поступки, а именно к таковым его подталкивали руководители Третьего рейха.
В профессиональной карьере Геббельса, так же как и у его шефа, имелись немалые достижения в манипулировании сознанием огромных толп людей. Сознание могущества толпы, обусловленного ее численностью, дает возможность сборищам людей проявлять такие чувства и совершать такие действия, которые невозможны для отдельного человека. Например, в начале тридцатых годов, выступая в Берлине, во Дворце спорта, Геббельс поразил молодого интеллектуала Шпеера тем, что, используя «фразы, из которых каждая поставлена на выигрышное место и четко сформулирована», сделал так, что «бушующая толпа, обуреваемая все более фанатичными взрывами восторга и ненависти, текла вниз по Потсдаммерштрассе. Исполнившись отваги под воздействием Геббельса, люди демонстративно заняли всю мостовую, перекрыв движение машин и трамваев». (31)
Однако представлять теоретиков нацизма лишь партийными демагогами было бы абсолютным непониманием феномена их популярности. А значит, и затруднением в поисках противоядия на будущее. Тот же Геббельс активно пропагандировал передовые для своего времени идеи эмансипации и громил консерваторов, считавших, что женщина обязана появляться лишь со своим мужем, не может пить, курить или носить короткие волосы. Свободомыслие Геббельса доходило до обличения показного аскетизма, который исповедовали многие нацистские фанатики. По его мнению, люди должны красиво и празднично одеваться, вкусно питаться и интересно проводить досуг.
И демонстративный «либерализм» одного из апостолов нацизма также укреплял социальную базу нацистского режима, во всяком случае среди интеллигенции Третьего рейха.
Вершиной ораторского мастерства Геббельса считается произнесенная им в феврале 1943 года речь о тотальной войне. Незадолго до того, потрясенный поражением под Сталинградом, Гитлер, которому нечего было сказать своему народу в очередную годовщину прихода нацистов к власти, поручил министру пропаганды 30 января 1943 года прочитать в «Спортпаласте» (берлинском Дворце спорта) речь от имени фюрера. По ходу выступления Геббельсу сообщили, что в небе появились английские бомбардировщики. Геббельс понимал, что если он прервет митинг и поспешит в бомбоубежище до первых взрывов, это станет его поражением, поражением его пропаганды. Поэтому он остался на трибуне и объявил многотысячной толпе, что митинг откладывается на час. Те, кто хочет спуститься в укрытие, могут это сделать, добавил министр. Кто-то поторопился уйти, но основная масса не сдвинулась с места. Им явно пришлось по душе, что Геббельс остался с ними. Некоторое время слышались только отдаленные разрывы бомб. Тысячи глаз смотрели на Геббельса, он понимал настроение зала и сохранял полную невозмутимость. Затем он начал говорить. Его речь была откровенной до предела. Несколько раз он назвал войну «тотальной». Поведение аудитории в «Спортпаласте» безошибочно подсказало ему, что в будущем он мог позволить себе говорить о тотальной войне намного решительней, чем предполагал ранее (32).
И главный пропагандист рейха немедленно взялся за дело. Само понятие «тотальная» война подразумевало грандиозную мобилизационную программу в тылу, перестройку промышленности на военный лад и ряд других мер, которые, по мысли нацистского руководства, должны были привести Германию к победе в той изнурительной войне против сильнейших государств мира, которую она же сама и развязала.
«Геббельс задумал свою речь как своего рода опрос общественного мнения, в котором знаменитые «десять вопросов» (которые оратор периодически задавал залу. – К.К.) должны были выяснить отношение людей к тотальной войне. Он намеревался спросить, готов ли народ пойти на любые жертвы ради победы. И он очень надеялся, что люди ответят ему «Да!» Он перечитывал речь вслух, запоминая, где следовало выдержать паузу, а где прибавить пафоса и выразительности: снова удалялся к себе, вставал против зеркала, жестикулировал, смеялся, вновь напускал на лицо серьезное выражение, выкрикивал несколько слов, потом переходил на трагический шепот – он репетировал свое представление: Геббельс разместит в толпе несколько сотен своих людей, которые будут подыгрывать оратору. Так делалось на всех его выступлениях» (33).
Итак, 18 февраля 1943 года Геббельс в своей речи призвал народ Германии к «тотальной войне». Причем он обращался не столько к рядовым гражданам, сколько к тем представителям привилегированных слоев, которые никак не хотели согласиться с программой мобилизации всех тыловых ресурсов. Германия по военным меркам жила слишком роскошно и это представляло опасность для государства в минуту напряжения всех сил нации. Нацистский режим, грабивший всю Европу ради социальной поддержки своих граждан, никак не мог решиться на радикальные меры. Даже Гитлер рекомендовал своему министру вооружений, как вспоминает сам Шпеер, вместо недвусмысленного запрета на бессмысленное модничанье немецких женщин в разгар войны, ограничиться «тайным созданием искусственного дефицита краски для волос и других косметических изделий» (34). И все же речь Геббельса вызвала грандиозный общественный резонанс, и партийные функционеры волей-неволей пошли навстречу его требованиям. Поздно вечером Геббельс разделся и встал на весы. Эта речь стоила ему потери почти трех килограммов веса.
Наконец-то были предприняты конкретные меры, сразу же горячо одобренные широкой общественностью Третьего рейха. В частности, Геббельс приказал закрыть в Берлине все дорогие рестораны и увеселительные заведения. Однако обращенный лично к партийным руководителям призыв Геббельса отказаться от излишне расточительного образа жизни не встретил восторга среди партийной верхушки. И когда Геббельс, как градоначальник Берлина, среди прочих закрыл любимый ресторан рейхсмаршала Геринга, это привело к острому конфликту между ними.
Сам Герман Геринг пользовался большой популярностью среди немцев. В Берлине любят толстяков: здесь лишний вес воспринимается как синоним радости, как доказательство хорошего характера его обладателя. Да и вообще, если верить психологам, видя полного, с округлыми формами мужчину, люди чаще всего утверждают, что он болтливый, добродушный, сговорчивый человек, открытый людям, любящий житейский комфорт и большой любитель поесть. Одним словом, обаяшка.
Геринг тоже охотно представал в образе храброго, добродушного человека, а в некоторых случаях даже защитника евреев. Кроме того, история любви Геринга и его рано умершей от рака первой жены Карин, так сказать, трогательная «лав стори» германского летчика и шведской дворянки, давно уже была взята нацистской пропагандой на вооружение и имела неизменный успех у сентиментальных немцев. Помнится, одна из таких публикаций, преисполненных возвышенной лирики, называлась «Высокая песня любви: становление Германии».
Берлинцы беззлобно посмеивались над страстью Геринга к медалям, но хотя он нередко становился жертвой их иронии, «Дядя Герман» оставался очень популярен. Это легко объяснимо, ибо люди инстинктивно тянутся к тому, у кого хорошее настроение, т. к. надеются, что оно передастся и им. Рассказывают, что развеселый Геринг обожал забираться на гигантскую фисгармонию и оттуда управлять, на радость своим маленьким племянникам, миниатюрной железной дорогой. Посол Франции и посол Соединенных Штатов застыли в изумлении, когда он однажды предложил принять участие в этой нехитрой забаве (35).
Если же речь заходила о приеме гостей, Геринг развлекал их с императорской щедростью, порою эксцентрично одеваясь в костюм героя германского эпоса Зигфрида: «Геринг устроил грандиозный «нордический» праздник, праздник авиации! Берлинцы, приглашенные во дворец своего Нерона, восхищались его сказочными коллекциями. Финские всадники в меховых шапках и с копьями в руках охраняли ворота поместья. На поверхности озер покачивались ладьи викингов, в парках разыгрывались поединки средневековых рыцарей» (36). И среди всяческих излишеств у него во дворце имелась аскетичная келья, точно скопированная с кельи святого Иеронима, какой она изображена на гравюрах Альбрехта Дюрера. Но, невзирая на все эти «слабости» (а на самом деле тщательно выверенные пиар-ходы), Геринг тоже стал отличным партийным оратором, хотя все, что он делал, являлось подражанием стилю Гитлера и заимствованием его фраз.
Иной стиль поведения выработал нефотогеничный и мышастый Гиммлер, который набирал основные пропагандистские баллы не в публичных партийных выступлениях, а в ежедневном личном общении.
В подражание Гитлеру и его стилю работы с сотрудниками, Гиммлер завел себе картотеку для распределения личных подарков и вознаграждений.
В картотеке отмечалось, когда получатель родился, какое звание и должность имеет, какой чин и место в партии, сколько у него детей, какова девичья фамилия его жены, где он живет. И, что особенно мило, как к нему следует обращаться: как к близкому знакомому («ты»), «дорогой однопартиец» или просто «однопартиец», а то и вовсе «господин». Точно также фиксировались все подарки. В их число входили тарелки, календари СС, фарфоровые фигурки. Дамы чаще всего получали полфунта шоколада или фунт кофе, консервированные сардины, масло или бекон. На Рождество Гиммлер нередко дарил полгуся или книги. При своей занятости рейхсфюрер никогда не упускал случая вручить подарок лично (37).
Естественно, кроме вышеперечисленных звезд первой величины из нацистского пантеона, и другие вожди нацистской партии не оказались обделены актерским дарованием. Известен случай, когда на съемках знаменитого фильма «Триумф воли» в 1935 году по техническим причинам оказался забракован отснятый материал, где вожди партии приветствуют Гитлера, и потребовалась пересъемка в павильоне. Первым под свет софитов вышел Рудольф Гесс. «Точно так же как перед 30 000 слушателей, он торжественно воздел руку. С присущим ему пафосом искреннего волнения он обратился именно туда, где на сей раз не сидел Гитлер, и, соблюдая выправку, вскричал: «Мой фюрер! Я приветствую вас от имени партийного съезда. Съезд объявляю открытым. Слово имеет фюрер». Говоря так, он производил столь убедительное впечатление, что с этой минуты я стал сомневаться в искренности его чувств. Трое остальных (Штрайхер, Розенберг, Франк. – К.К.) тоже правдоподобно разыграли каждый свою роль, обращаясь в пустоту павильона, и все проявили себя одаренными артистами» (38).
Кстати, о хозяине Нюрнберга и всей Франконии Юлиусе Штрайхере и его пиар-акциях. Об антисемитском издании «Штурмовик», который он возглавлял, мы еще поговорим, но и прочие находки этого журналюги носили воистину поразительный характер. Так, в конце 1935 года Штрайхер публично пригласил к себе на роскошный рождественский ужин… 15 коммунистов, заключенных в Дахау (39). Видимо, по его мысли, общая трапеза должна символизировать национальное примирение в праздничные дни. Интересно, как сложилась дальнейшая судьба облагодетельствованных ужином узников Дахау?
Более серьезные люди – из карательного аппарата – конечно, вели себя скромнее, как и должно законопослушным и честным бюргерам.
Например, легендарный шеф гестапо Мюллер был крайне набожен, ходил в церковь, отличался скупостью – больше 40 пфеннигов на «Зимнюю помощь» нацистам в копилку не бросал (40). Бережливость, видимо, какая-то особая черта нацистских людоедов.
Однако вернемся к публичной деятельности и выступлениям перед аудиторией. Ораторское искусство в нацистской Германии ценили высоко и для пропагандистской работы была разработана целая иерархия партийных ораторов, включавшая 6 категорий: «оратор-специалист» (экономика, международные вопросы, антисемитизм и пр.), «районный оратор» (каналы устной агитации на провинциальном уровне, данные специалисты особенно активно использовались для распространения всякого рода слухов), «областной оратор» (универсальные ораторы гауляйтерств), «ударный оратор-кадет», «ударный оратор» (эти обеспечивали централизованные кампании национального масштаба), «государственный оратор» («звезды» нацистской пропаганды); во время войны также было введено звание «фронтовой оратор». Причем рядовым агитаторам рекомендовалось избегать обсуждения таких щекотливых тем, как антисемитизм, подготовка к войне, принудительная стерилизация и негативное отношение вождей к организованной религии. Это считалось работой для специалистов более высокого уровня, которых готовили специальные курсы.
О размахе подготовки подобных профессионалов свидетельствует хотя бы то, что только в одном лагере, устроенном Бюро расовой политики в 1930-е годы неподалеку от Берлина, прошли восьмидневные курсы интенсивной подготовки почти полторы тысячи ораторов. И каждый год через курсы, где «миссионерское рвение сочеталось с военной дисциплиной», проходило более тысячи членов СС. Здесь готовили специалистов, которые могли «со знанием дела» обсудить любую расовую проблему – будь-то в школе или собрании домохозяек. Агитационная работа на местах осталась одной из немногих сфер, которую Министерство пропаганды отдало на откуп пропагандистским организациям НСДАП, вплоть до ортсгруппе – низовых звеньев НСДАП, отвечавших за работу в городских кварталах. Во главе их стояли ортсгруппенляйтеры, а, по сути, рядовые штурмовики, которые еще недавно занимались уличными побоищами и в новой ситуации строительства нацистского государства никак не могли найти себе достойного применения.
25
Современные политтехнологи расширили данный ряд, подкупая слушателей ключевыми словами о возможности выбора – все производные от глагола «мочь», «выбирать», «хотеть», «желать», слова «вариант», «свобода», «независимость» и др. Темы группируются по возможным точкам уязвимости: один набор должен подтолкнуть группу к разделению, эксплуатируя различие «мы – они», другой – акцентирует тему неизбежности. Неизбежности победы одних и проигрыша других. Третий – тему легитимности друзей и союзников и нелегитимности оппонентов. В данном случае уверенность оратора повышает вероятность того, что сообщение будет принято и одобрено аудиторией.