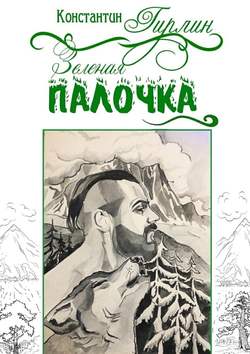Читать книгу Зеленая палочка - Константин Олегович Гирлин - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ГЛАВА 2
Оглавление«Я запрыгиваю к окошку в радостном ожидании чего-то… – в чистом стеклышке рисуются черные мои бровки. Душа изныла – я очень ждал этого дня! Мамочка с папулей спять скучно, друг к дружке бочком; они слишком взрослые, такие невидальщины просыпают. С пятого этажа вижу я необъятных размеров огромное солнце: открыло оно покрасневший глазик, точно разбуженное от странного беспокойства, – не спалось ему, такой ведь расчудесный день сегодня! Здравствуй, солнышко!.. Громадное, исполинских размеров… – вот оно перемахнуло через гребешки крыш, опустилось на землю красными пяточками; шагает с подскоком: прыг-скок – и земля от него дрожит; идет по веселому двору, цепляет широченными плечами тонкие листочки – они ему приветами машут. По горизонту рассыпана красная малинка, и занавески наши – красные, с узором, в зазубринах огненного света; я вижу первую ласточку – и она, бедолага, не выспалась: раскраснелась собою на черном тельце. Дворник гуляет по двору, забирает метлою, – на нем струйки света. Сколько лет минуло с того дня… кожа моя стала толще панциря, и не проникает сквозь нее тот чудесный свет радостного детства… – а я все еще помню его, и сердце чешется, в унынии просветленном. Принюхиваюсь-вдыхаю носиком, как кошечка, – ох, этого даже не выразить!.. нужно ребенком пожить в этом мире; дышит воздух своим дыханьем нежным – помним ли мы его?..
Сегодня день особый, он будто весь из восторгов… настроеньице в лето вошло: кажется мне, что я совсем-совсем старый, мудрый дедушка, только маленький такой, как комарик. Мой девятый день рождения – праздник какой для души: три раза по три, три – святое число, от Бога, я это знаю, – Святая Троица. И только страшное ворошится на совести – там грех…
Вчера потерял я любимую мою игрушку – динозаврика, птеродактилем называется, в мультфильме видел – и мне купили. Как здорово игралось… и вот – потерял. Улетел мой динозаврик во времена доисторические. «Чего ты нос повесил?» – успокаивает бабушка, а я хожу по двору в поношенной грусти с утра и до сумерек, ищу милую моему сердцу вещицу, такая уж она интересная-разъинтересная – где-то затерялась. Хожу-брожу, всякий куст облазил, под каждый камешек заглянул, – пусто. Улетел… И когда я совсем опустил руки – жалобно так про себя попросил, светлой грустью: «Господи, всемогущий Отец, отыщи моего динозаврика – и я буду хорошим до конца жизни. Клянусь». Только вымолвил, глядь – вот он, зелененький, приземлился в травушке-муравушке, листочком прикрылся – в прятки играет. Тянусь к нему в счастье, а сам так игриво напеваю-дразнюсь: «Обманули дурака на четыре пятака». Тогда научение мне было: взял и пропал динозаврик – испарился. Так и не нашел его… только слова мои остались, про дурака-то, – как их воротишь? Сегодня я жду чудес… и страшно мне до ужаса, нехорошее предчувствие: Господь накажет… не пойдет праздник, и не будет никаких чудес.
И вот гляжу я на дворик мой: каких только игр не придумаем; на цветные турнички – на них притаились все будущие мои кувырки-перевороты, таких забав сочиним, – как же здорово! И с балкончика просится мой старый велосипед; сухая земля, в пыли вся, – Господний покров; теплынь святая – гляжу на красоту в немой радости, и слезы у меня на глазах. Столько лет прошло, столько прожито и выстрадано, отдано живого-кровного, – а в глазах не высохли воспоминания. Такой хороший день сегодня! Такой великий праздник – я родился.
На кухне последние приготовления: бабушка возится, на столе чего только нет: вкусности разные, рыбка скумбрия, икорка, салаты невиданные – таких не кушал еще, картошечка, сладкого много, напитки – «детские и взрослые», – вся ее «мастерская» в пару, в милой домашней суете. Выглядываю из-под стола одним глазиком, застенчиво, с тихим смехом, – очень интересно мне, и до сердца смех доходит. Заметила бабуля, погнала, как кошку, – «Ишь, блаженный». Я не знаю, кто такой блаженный, но мне кажется, это что-то хорошее, что сейчас я именно такой. У бабули темно-каштановая головка, прическа праздничная, и сама она нарядная, сказочная, только в фартучке, – занятая, забавная такая. Посечет потом коса времени: уж станет седенькая совсем – кто-то ненарочно «испугает» мою бабулю: цвет весь выйдет с волос, вырвется с кожи пятнами, и ручки ее хозяйские будут трястись – сильно напугают любимую мою старушеньку, – это будет много позже… Мама наряжает меня в новые джинсики и маечку. Смотрюсь в зеркало: какой я красивый! – свет от меня, цветущий румянец, и личико такое шкодливое – озорные карие глазки; не могу я сидеть на месте, бегать хочется.
Очень много гостей сегодня. Взрослые – в отдельной комнате, отмечают мой праздник своим манером, только позвали – поздравили, открытки красочные в ручки дали, с любовью; слова приятные говорили; дядя Саша меня по головке гладил, подарил железную дорогу. Очень она мне нравится, и мне не терпится показать ее товарищам, чтобы и они радовались моему подарку.
Пришли друзья, нарядные-пренарядные, никогда такие не были, важные все, причесанные, от сердца из рук дарят – как я это чувствую!.. и очень смущаюсь: мне неловко от внимания. Я посидел бы, посмотрел, как кушают со стола, послушал бы, как обо мне говорят, – только в сторонке… Лешки не хватает – не пригласил его. Наговорил он мне, будто двор наш на костях строился, по душам ходим, – это он наверняка знает. Души под крестиками схоронены, а крестиков не видать – домами застроили; вырыли их, асфальту наложили. Пророчил, дескать, мертвецы страшно злые, не нравится им это, восстанут и на каждого наказание придумают, с собой заберут, и будут там пытать пытками разными, проклятиями покроют, – отомстят за обиды. Не спал я несколько ночей, в холодном поту лежал, в темноту комнаты вглядывался – скелетов угадывал. Как я боюсь скелетов… много еще чего боюсь… Лешка, брехун, и час назначил: агитировал к войне готовиться. Никак я не отойду – страшнючие, наверно, скелеты, злые… у них и сердца-то нету, где ему поместиться. А как без сердца можно?.. Дядя Саша объяснил, что живые страшнее мертвых: у них свой резон… а для мертвых все одно. Столько сердца мне попортил Лешка – не позвал я его на праздник. И сейчас мне жалко его: наверно, дома сидит, на игрушки свои смотрит и думает, как нам тут всем весело без него.
Откушали мы сластей, посмотрели железную дорогу… – так и катится паровозик, тут и вагончики интересные: «товарные» – объяснил дядя Саша; кнопочка на пульте есть – гудок пускать. Вот бы завтра поскорее: построю город внутри «дороги», промышленность будет налажена. Поиграли мы, позабавились на подарки… но потом как-то расклеилось празднество: наелись от живота – и давай валять дурака, языками пошли, – как их удержишь! За уши меня дергают – очень больно, а главное, унизительно, – это чтобы смешнее было; дразнят меня. Я не в обиде, только б меня не обижали, шутили бы, не делая шутки из меня. Смех у ребят нехороший, и я тоже смеюсь нехорошим таким смехом… против себя, «за компанию». Артур – самый набалованный – взял мой телефон, позвонил кому-то и гадость сказал. Вот с чего нехороший смех начался… и я смеюсь, хоть и не смешно вовсе. Не нравятся мне такие шутки. Позже я уж Артура за его бестолковость отчитал, да только неприятность у нас вышла, большой раздор! Не принял он строгое замечание, плохой мальчишка, шаловливый… а так произошло, что и здесь напроказничал.
Вечерочком выбежали во двор, лихие мальчишки – до крика, кто нас остановит! «Гуляки» – только и покачала бабуля головой. До темноты бегали, сердце у меня так и заиграло, сражались на палках, по гаражам летали, пока нас не погнали… – громко «летали». Голубело с неба… На колонке воды напились – рыцарский дух перевести; хотели в футбол поиграть, за мячом снарядили Геру – только у него мячик есть. Гера на небо тычет – темнота подходит – «Загонят». Да как загонят, в такой-то день! Как можно! А как про темноту заговорили – вспомнили вампиров всяких, домовых, – страшных-мертвых, из того мира, невидимого. Надумали тут… пролезли в самый злачный и темный подвал, вызывали кого-то… только я не ходил – не отважился. Но ребята хвастали: Пиковая дама, дескать, по лестнице спустилась: кричали мне – вот такая ужасная была, за каждым погонялась, а они все целехонькие вышли! Я очень расстроился – тоже хотел Пиковую даму посмотреть; а потом испугался: за мной ночью придет, когда праздник закончится. И всей душой мне хочется, чтобы праздник не кончался, чтобы гости мои не расходились…
И вдруг вижу: от угла плывут три фигуры… – темно уже, закрываются от глаз, силуэтами нарастают. У меня в зобу дыханье сперло: это папа мой, чувств лишился, под руки его несут… проникся бутылкой, что дар речи потерял. Через день вот такой, увечным тащится… но сегодня же мой день, то есть особенный, в такую дату!.. Как же ты мог, папа… Мне все еще страшно – теперь от стыда: внимание отвлекаю, чтоб товарищи не видали. А Сережка – зоркий, лезет вечно: «Гляди, отец твой надрызгался, алкоголик» – озлобленно так, с превосходством сказал. Вот так и закончился мой день рождения. Дальше все окончательно испортилось, как будто взяли хорошее и поганого в него накидали. Геру и правда загнали – не поиграли мы в мячик. С Артуром до драки дошло, не простил ему его глупости с телефоном – мне ведь потом все отольется. Он меня отлупил, и майку новую подрал, джинсики грязью обтоптал… Убежал я домой, а ребята, как одичалые, стали камни в спину кидать – все как один, так им это нравилось. Прибежал домой – маме слезами рассказал. Пошла со мной к Артуру – разбираться, конечно, и мир наводить. А Артур ей так дерзко: «А ваш-то Адам, можно подумать, прям ангелочек». Вот такое воспитание… Домой вернулись без результата, ничего не решилось, мама даже в впечатлении осталась: такой маленький мальчик, а говорит, как взрослый. И дома гостям на Артура хвалилась – смышленый мальчик. А я мялся у стеночки, и никто не видел моих расстроенных глаз. Отец отошел немного, начал буянить: свирепый, точно лев голодный, – это привычно. Гости поразъехались уже… Про телефон узнал – к стене прижал меня и коленкой ударил несколько раз, в спину. Очень больно и обидно было: стою, как будто ненужный, в порванной маечке, побитый, и где-то на столике моя новая железная дорога – забота дядина; так невыразимо горько мне стало, от обиженного детского сердца, и я тихо заплакал. Тогда я сказал про себя: «Ты меня ногой в сердце ударил. Когда я вырасту, я убью тебя». Залез я, униженный, под одеялко и представил, что в гробу лежу, а на мне ангел – смотрит и оберегает от отца. Умру – вознесет меня на крылах до небес: в раю у меня будет сколько хочешь друзей. Я вспомнил, как Костик говорил: «В покаянии, через ад земной, обретается рай небесный». Такие слова диковинные, зрелого ума, только понял: каяться и рай. За что мне каяться? Наверно, есть за что… – в рай очень хочется, потому что скелетов боюсь.
Костик – особенный мальчик, мы с ним очень сдружились. Семья у него добрая, в Боге живет, и дом у них от книг живой – душа у него своя. Костик мне рассказывал: «Мой день – Константинов день – девятнадцатого марта, это день прилета белых аистов, у нас, православных, день памяти равноапостольных Константина и его матери Елены, которые отыскали крест, на котором распяли Христа. В этот день постятся, освещают колодцы и источники, воду, ходят в баню». Очень умный мальчик, и безобидный, сострадающий, – такому сердцу его родители научили! А вот как вывернула судьба: накануне «своего дня» пропал Костик, во дворе не появлялся. Несколько месяцев в отсутствии был, всякое толковали, только я все думал: а вдруг Лешка не соврал, вдруг скелеты… по одному вылавливают, самых сильных и светлых забирают, чтобы потом наголо разбить нас, в панику пустить. А так получилось, что и без скелетов не обошлось…
И вот вышло лето, к зиме подходило… Деревья стояли голенькие, только на верхушках листочки – в желтых шапочках, к холодам. Небо совсем в высоте – красным на бледно-голубом, – и горит, горит в высях недолетных. Огнем пылают в окнах пунцовые шарики, глазу тесно на них смотреть; вся улица смотрит на ветер – свежий, душистый аромат осени, плачет да воет она по кому-то, – невозможно надышаться, хочется еще и еще! Пахнет согревающим травяным чаем с листьями малины, черной смородины, с мятой, чабрецом, шиповником и вкусным домашним вареньем; пахнет домашними заготовками, шерстяными носочками, свитерком… Листья лежат, как сброшенные платья, легкая сырость, туманы и где-то дым костров. Пахнет книгами, старыми, пожелтевшими страничками – читаешь-хрустишь, как-то особенно хочется читать. Все прячется: природа затихает, улетают птицы, убегают насекомые. И остаешься ты в этой тишине. В тишине хорошо отдыхается. К окну прильнешь – резво бегают ребятишки средь золотых полей, убегают от закатного солнца лучей, стоит перезвон их легкого смеха, с веселья.
Отвела меня мама в гости к Костику. Строгая была, неразговорчивый какой-то день, – насторожился я, дурное почувствовал. Оказывается, сильно заболел мой Костик, какой-то невиданной для меня болезнью. Лечился, повозили его по разным ученым в халатах – не помогли халаты; потом – к старцам. Тут без халатов разрешилось… Я захожу к нему в комнатку и цепенею с ужаса: нет Костика, а лежит махонький скелетик, беленький, с постелькой сходится, косточки торчком – обглоданный, головка без волосиков. Супчик посасывает… Он посмотрел на меня недвижным зрачком, ручку из-под одеялка выпростал и прошептал, опуская глаза, казавшиеся на исхудавшем лице особенно большими и выразительными: «Прости меня, Адам, ради Христа» – и птеродактиля мне моего протягивает. Вот, значит, куда улетал… Задушили меня слезы… «Бог простит» – откуда нашел я в себе такие слова? – в душу вложили. И очень тяжко там, на душе, стало: не сумел я просить в ответ; я его плевал раз, дразнил и кривлял, – другим на смех; вот за подлость просить и не стал, больно страшно было. Эх, пропащая моя душа!.. Только и смог вымолвить: «За что так Господь?» А он мне, касаясь доброй улыбкой: «Помнишь, прошлым летом меня в лагерь отправили. Я по матушке очень скучал… Все думал, это от ненужности меня сослали. А потом вернулся – у нее в глазах слезы наплывают. Оказалось, дознавала: воспитателям звонила, даже приезжала, только на глаза не показывалась – знала, какой я впечатлительный. «Пусть отдыхает сыночек» – так она говорила. Это мне потом стало известно. Значит, тоже скучала, и много больше моего. Просто не понимал я, не мог понять. А представь, что есть где-то такой Родитель, у которого миллиарды детей, и каждого из них он любит материнской любовью, и вот каждого ждет из «лагеря», мечется от любви этой, только на глаза не кажется. Это ж сколько слез, Адам! Мне думается, самое большое страдание – у Бога… за что ж его ругают?.. Когда я уйду, скажут люди: «Мир так устроен». А ты не верь им – не так он был устроен, так устроили его. Понимаешь, это не Бог, а человек так все вывернул. То, что дал Бог: кошечки наши дворовые, собачка Лорд, беспородный блохастик, наш компанейский друг; травка, деревца, солнце, птички – все это для счастья. Когда мы с тобой кораблик выстругали, на воду спустили, – помнишь, радости было!.. Вот – Бог. А с соседнего двора те пришли, на кораблик позарились, испортили, высмеяли, попинали по-детски, – вот тебе и человек. А я знаю, во взрослой жизни все то же: дерутся, только в подлость, то есть интеллигентно, в костюмах, с галстуками гадости говорят, а языки отравленные аж за спину перебрасывают; меряются, у кого тьма глубже, – а разве мерило такое найдешь? Ты верь, как я верю, и ничего плохого не случится; а то, что казалось тебе раньше плохим, сейчас выйдет как бы хорошее. Ты увидишь, почему так. Земля кончится – небо начнется, там жизнь будет настоящая.
В Библии говорится, что в Бога даже бесы веруют, и трепещут, а люди, у которых крест нательный, не стесняются грешить… молятся друг перед другом – для успокоения души, слова вызубрили, вот как мы с тобой – стихотворение школьное. Только это не стихотворение… Нельзя так – святое. Чтобы Бог был в тебе, нужно каяться и молиться искренне, отрешаясь от внешнего мира, от того, что развлекает тебя, как бы освобождая мысль, вызывая в нее божеское начало. Храм и церковь должны быть в тебе, тогда и Бог откроется в сердце и станет твоим Небесным отцом. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату свою и, затворив дверь, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не будьте похожи на них, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него»».
И не понимаю я еще, почему мама никогда Костика не ставила в пример, почему с языка не сходил подленький Артур… Теперь понимаю. А тогда только и сказал: «Костик, а для чего ж тогда все это?» – «А чтобы любить. Я матушку так люблю, что даже представить себя без нее не могу. Вот для этого: у человека должен быть другой человек – Господь такую милость нам дал».
И я с ужасом так подумал: а ведь я никого не люблю. Получается, нет на мне милости божьей, и совсем бесполезный я, лишний человечек, не от природы ребенок, а от какой-то недосмотренности, ошибки, – выкидыш, мертвый совсем, то есть без души рожденный. И такое бывает?.. Нужно кого-то полюбить… а вдруг не успею, не смогу?.. а может, и туда пройти не дадут! Где ж мне быть? И вот годы вышли, и какие годы – жизнь моя таежная, – до сих пор никого не люблю. А тогда, на вечер, когда отец меня побил ногами, упал я на колени в незаметном месте, в темном нашем уголку, и, как Костенька говорил, пришел к Нему: бабулечка моя родненькая, семечки с ней грызем, всякие передачки смотрим, – ласковые глазки за большими очками, платочек-цветочек; и папуля: добрый, смешливый, только пьет от горя: не любили его в семье, и сейчас не ладится – выхода найти не может, страдает человек, а никому и невдомек; приставку мне купил, и одежду… бил, обзывал, да только… любил, неумеючи просто, – я ведь сын его единственный; прогулочки всякие вместе с мамой: одиночество у нее женское – но меня не забывает, значит, не просто так я! и с друзьями всякие приключения на лето; дядя Сашенька, свет мой и радость всех печалей моих детских, – дядя Саша и тетя Алла, добрые мои, погощу у вас, любви напьюсь, – всех я вас пережил…. Все ушли – а я остался: смотрю я на железную дорогу, на открытки мои – ну, все… Господи, сил моих больше нет… И не забираешь… А потому, что нет души, – нечему уходить. Как червь, зародившийся внутри плода, истребляет всю внутренность плода, оставляя только его оболочку, так и во мне все выгрызено. И вот живу… оболочкой кожаной. Но раз так вспоминаю, значит, и я кого-то любил, а может, даже больше, чем другие, просто выразить этого не мог.
«Что у вас интересного? Как там, во дворе?.. Мне даже встать не разрешают, а то бы я сам, конечно… – так ведь хочется» – с живым любопытством спрашивает Костик. Мне зазорно неправдой отвечать: весело и хорошо нам гулять, и отчего-то мне очень трудно… и я вру ему: «Костенька, да я же сам дома сижу, „жюльвернов“ разных читаю». – «Вот как! И я читаю… вот, любимое» – он так взглядом показал: на столике, где засветили свечу, – темное в окошки просилось, с неяркими огоньками, – лежит книжка: «Евангелие» – читаю я и только догадываюсь, что в этой Книге что-то особенное. «Мое любимое – про Преображение. Там о чуде на горе Фавор, когда ученикам Христа было явление преобразившегося Иисуса. Лицо Его сияло, как солнце, а одежды стали белыми, как снег. Никогда не видал ты такого снега… И апостолы, тоже не видавшие, были поражены явлением Божественной славы Своего Учителя. Они испытали ни с чем не сравнимую радость. Это даже сильнее, чем когда мы на речке купались… Много, много сильнее! И светлое облако осенило апостолов, и услышали они из облака голос Бога Отца: „Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте“. Ученики в страхе пали на землю. Когда же облако исчезло, Иисус, подойдя, коснулся их и сказал: „Встаньте и не бойтесь“. Его лицо и одежды уже не сияли чудесным светом, но апостолы осознавали, что перед ними стоит не обычный человек, а воплощенный Сын Божий. Так с ясного неба сошло светлое облако, и было явлено Отчее благоволение Возлюбленному Сыну. И теперь фаворский свет продолжает светить для тех, кто уверовал во Христа. Этот свет помогает нам непреткновенно идти по жизненному пути, преодолевать трудности, смиряться и благодарить. И наша собственная жизнь должна освещать путь для наших ближних, приводя их к Свету Христову. В Преображении было преображено все человеческое естество, так как Бог стал человеком и „преобразил“ Божий образ каждого человека, удаляя с него „осадок“ первородного греха, обожил его. „Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем“».
Через неделю Костика не стало… – маленький гробик. Тоже улетел, как мой динозаврик. После похорон сидели ребятами на каруселях – грустные воробушки, и Артур глаза опускал… – а я все видел!.. Значит, зря плохое о нем думал – и у него душа.
Костюня… вот такой у меня был товарищ! Так он каялся, сокрушался о грехах своих черных. Долго я представлял, как Костика скелеты мучают, и тихо скулил. И от слез моих в памяти мокрым остался этот день – мой день рождения.
Теперь плачу я в поля золотые, средь которых носится детский затерянный смех, – Санька, Игорюня, Сережка, Костенька… и даже Лешка, – пусть завидует солнце, а мы, все дальше и дальше, углубимся в поля, в золотые поля нашего бесконечного детства, посев полей Господний. Все мы не прошли, а есть и пребудем… перешли от смерти в жизнь!»