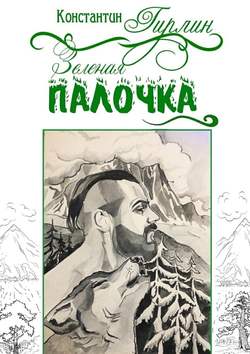Читать книгу Зеленая палочка - Константин Олегович Гирлин - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ГЛАВА 3
ОглавлениеАдам открыл глаза от странного чувства: худые, с оттекшими веками, воспаленные от бессонницы, они были обращены к потолку. За окном – вечерние звуки города, приглушенные шумом падающих капель. Последний солнечный свет сидит на подоконнике, болтает лучами-ногами. Сиреневое небо на западе отливает оранжевым, город кажется фиолетовым. С верхнего этажа просачивается мелодия: это Равель, «Павана на смерть инфанты». Густые капли мелодии выступают на потолке, капают, как слезы: кап… кап… кап… Мелодия рельефная, пластичная: мистификатор Равель навевает мысли о смерти, смерти аллегорической, и вместе с ним мы ностальгируем по безвозвратно ушедшему времени. «Видеть, чувствовать, выражать – в этом все искусство». На стене – большая фреска из тени: фантастическая игра света. Свеча-коротышка в угол забилась: пляшет пламя – желтое с синим, – подыгрывает фреске. И весело-превесело же им, такая скрытая радость Мира!
Был чудный вечер, сама жизнь, согретая красотой. В сердце что-то копошилось: вздрогнуло спросонья, перевернулось с боку на бок, – так пробуждалась Любовь. Поскользнувшись, солнце завалилось за горизонт – дурной был какой-то свет, нетрезвый… В вангоговском небе вихрился запоздалый снег: как ручная птица, садился он на плечи прохожих. Завертелся дождь с игривым настроеньем, обглодал улицы. Люди шли серьезные, хмурые, – серьезный день прожили.
Возле городского цирка (Буденновский и Горького), если следовать по правой его стороне, – дворик: маленький, неприметный закуток. Все причудливо перепуталось: неожиданные углы, забавные кривые линии, какие-то краски… пастельные тона: очень мягкие, тихие, – что-то неземное, запредельное… «белое». В этом дворике обитает особый дух, здесь утрачивается равновесие души.
Последний снег припорашивает землю… Как после разрушительного урагана на небо приходит молчаливое солнце, так и к Адаму, после короткого переживания, возвращается состояние всеобъемлющего умиротворения, умиления Жизнью. Потянуло в тихие улочки. Он робко идет по улице, меж подслеповатых лысеющих домов, кряхтит под неспешным его шагом постаревший снежок. Кто-то заключает в нежные объятия его сердце, осторожно берет за руку… и ведет. Адаму хорошо и покойно. Он чувствует, что не один: есть что-то другое, непознаваемое…
Перелистывая страницы прожитых лет, сердце Адама болезненно стеснилось в груди: добрая грусть накатила, тенью глаза накрыла. Блаженно улыбалось изборожденное морщинами, измученное лицо, – смейся, дитя, когда Господь щекочет твое сердечко, и за лицом не следи! В этом что-то высшее, божественное. Сентиментальщина, скажите вы! Пускай…
Сыночек мой, гляди на качели: все в ушибах, ссадинах; на беседку в «кепке» набекрень… листай страницы не спеша; с альбома машут тебе полинялыми платками – узнае́шь тепло в глазах? В каком ином краю это было?.. Сережа, Игорек, Артур и Леша – храбрецы, авантюристы. Костенька, милый Костюня, стукает ли еще лестница чугунная, того самого утлого твоего домишки в два этажа? По ветру носится… Пахнет как! – особенным духом. На дворе – тихое журчанье: это жаворонок – прилетает ли он теперь?.. Разрушен дом – снесли его. Вместе с нами со всеми…
Возвращаешься туда, где все знакомо, где мама молодая… и отец живой; где милый двор вне времени, земля твоя родная: комнаты, дышащие убогостью и скудостью, – святой уголок твоего сердца; где скорби и любовь еще не ушли, не исчезли; где еще звучат голоса летнего дня – не растерять бы всех теплых дней в судьбе… Веселый мальчик, ребенок света, точная наука сейчас в твоих руках – это память; слушай ее, как музыку, – с закрытыми глазами: нахлынут воспоминания – это Боженька к груди твоей ладонь приложил. Мистерии земли объединятся с небесами; близкие, ушедшие в Вечность, снова пройдут с тобою рядом, слившись в размалеванный пейзаж. Крикнешь им в синие дали: «Робя-я-та-а! Да будет Све-е-ет!»; голос сорвешь – не жалко. Прости обиды, цветы принеси… и плачь, сыночек… горько плачь, пока выходят слезы, – тогда ты снова эпицентр мира, ты снова – Человек! Живи… Жить надо!
Грустно тебе смотреть вокруг: детство твое убито, не сыщешь его теперь и с фонарем Диогена. Уткнутся носом в мертвую технику – мир цифры, но не души. Расскажут им: подлость есть честь, похоть – героизм, слабость ума с отвагой спутают, – все переврут. Бедный ребенок, быть тебе идиотом программным; книги – светоч и зерцало мысли – накормят тебя мертвечиной: дохлыми текстами, где правда искусно подбрита, и смердящими мыслями; душу твою оцифруют – подадут, как на блюде, ужасный умственный яд. Читаешь бумагу грязную – дырку в голове начитал. На большом экране покажут красоту убогую, перекошенную, бери с нее пример – духовным уродом станешь, как «им» надо! Размалеванный весь: на совесть малюешь, и сердце закрасил-исчернил, – из себя поганый какой!.. Лютуешь от «большого» ума: мо-да. Тьфу на нее!.. во сне кошмарном не приснится: Человеком быть нынче не модно. От кино получаем мы мораль гнилостную – откуда она происходит? Из людей-отбросов, из этой отвратительной лохани с помоями. Распространили вокруг себя отрыву, насыпали яда крысиного – и подводят итог: дебет и кредит – навели бухгалтерию, сходятся цифры! Но ты ведь не крыса… и травишься… Дуришь себя фильмами и веришь, что и сам из фильма. Но жизнь живая!.. Ее не остановишь, не перемотаешь… Доживай свой век, доживай свой дешевый фильм, несчастная кукла, дергайся на веревочках среди живых людей, – и конец!..
Дурак народ: на площадях, по улицам, марширует он громко, «идейно», скандалит, срамит себя… – у человека, говорят, нет стада. Значит, есть!.. По совести копытится, ретивость показывает и блеет: овечьи лозунги, коготком волчьим нацарапанные. Потеха?.. Будем вам и потеха, когда подерется народ с самим собой. Это трагедия русскодумающих, русскочувствующих, всей крови русской – она бурлит слишком сильно, и слишком сильно верит эта кровь в слова, которые глаголет. Горчит под сердцем, в глазах печет: мы сами не понимаем – отчего горчит и отчего печет. Дурак народ…
Это уже не искус, это наше настоящее: Живое уходит, ухо-о-дит! Полон котел человеческого мяса… и душу сварили… Скажи теперь лишь: далекое мое любимое детство, прощай; прощайте и вы, товарищи мои, мальчуганы-мечтатели, поэты пыльных улиц: бойкие, задору хоть отбавляй, – дворовые мальчишки… в нашем лете, в тихом нашем небе; прощай, великий Дон и нацелованный водою тихий берег… открытые улыбки, честный смех; прощайте, мои сдутые футбольные мячи и дешевые велосипеды; прощайте, мои камни, жучки-паучки, знойные мои летние деньки и загадочные вечера; Гера, Костик – прощайте все, спасибо вам за Мгновения и да будет благостным ваш путь.
Пустая беседка. Хромые лавочки. Фонарь понурил голову – устал. В окне пятого этажа – фантом: беззвучно плывет видение минувшего, обманчивая фата-моргана.
«Моя жизнь, – вспоминает Адам, поднимая отуманенный взор к окну. – Боже мой, вся моя жизнь!.. Моя Атлантида, о которой только лишь в книгах… Черный обелиск: память, овеянная тоской, – спи мирно, дядя Саша. И отец, испивший за жизнь столько страданий… все эти ссоры… так незначительно; о стольком бы поговорить – теперь?.. Мой папа… Сегодня я вспоминаю тебя: твой образ стоический, обнимающий меня и мать. Какое священное слово – семья!.. Наши путешествия на черноморское побережье: сокровенное «присядем на дорожку» и запахи старой твоей машины… я все это слышу сейчас – в храме души моей; дорога, фантазии детские, море мое бескрайнее, – где же все это, мифом стало? Ну, вот… Вдыхаю воздух, а это, оказывается, и не воздух, а… детство.
Что же это такое? Это ад мой?.. Нет… Нет никакого ада! Невозможно: дьявол создан человеком – по образу и подобию своему. Есть лишь Свет Божий, остальное – расщепляется, кремируется в Ничто. Пустота, вакуум – то, что вне Бога. Найти бы этот Свет «ведущий», чтобы не погибнуть, не сгореть во тьме греха, – такова цель существования человечьего!»
Адам поднялся по лестнице и остановился у порожка на пятом этаже. Перед ним лик призрака – тихая старушка. А ведь там, где тишина, там и грусть… Ласковый свет льется из этих грустных глаз. Он не сразу узнает родное лицо: оно треснуло морщинами, на нем отпечаток боли; тусклые глаза, подернутые пленкой равнодушия, – «теперь все равно». Взгляд этот словно говорит: «Это всего-навсего я».
Это неживое, мумифицированное лицо принадлежит Ларисе Константиновне, бабушке Адама. Страдание ее – перманентное, старческое: она все больше оглядывается, ворошит омертвелое, объеденное временем прошлое, нежели живет сегодняшним, – этакий выверт души. Она полна той самой пенсионной праздности, в которой ум, бездеятельный и не приложенный ни к чему, рождает странные идеи: порой бредовые, а иногда даже зловредные. Одета она по-постному: черный платочек, юбка до полов; ручки маленькие, точно игрушечные; худощекая, с выпирающими, как шишки, скулами, словно выедена из нее сама жизнь.
Эта встреча Адама с бабушкой, их воссоединение, – происходили после очень долгой разлуки. Загадка, выгравированная на скрижалях семейной жизни: бить по родному и порознь быть – кто разгадает, ну! «Мы по крови родные, – умоляла уже больная женщина во время последней их ссоры, – нам нельзя врозь. Как же ты не понимаешь, люди должны держаться друг друга! Ну вспомни себя маленького… К кому же мне… я совсем одна, только мы друг у друга и есть» – «Не верю я в кровь, старая дура! Чтоб ты сдохла!» – кидал Адам дерзкие слова, «умные», и кипела в нем молодая, глупая та самая кровь; на хорошем положении жил, взрослость показывал.
А теперь… ни семьи, ни детей, – теперь сам «сдох».
Тогда Адам нанес последнюю обиду, финальную, роковую, – «Ты дал мне в то место, где было про любовь. Вышибло ее». Он и сам не хотел ее наносить, но, тем не менее, сделал это жестоко, порывисто. Кричал, ударяя себя по лицу, одержимый бесом… и ушел, хохоча в ночь. Во всей этой губительной парадоксальности была какая-то дьявольщина: не злость даже, но нездоровая садистская озлобленность на человека, маниакальное стремление досадить, испортить все, упорство в тотальной ненависти. Как будто все детские обиды, которые копились в нем долгие годы, разом нашли выход на одном человеке. Уже потом Адам страдал, но страдал сценический, даже «с удовольствием», ведь тогда еще была молодая голова, силы были богатырские и коварное «море по колено». «Я, – говорил он, принимая осанистый вид, – человек творческий, художник, муж поэзии. Мне это все дозволяется (ругаться в смысле), я не товарищ своему настроению. Привыкай!» В то время он действительно баловался лирикой, только очень уж костлявой, посредственной. Правда, одна малотиражная периодика ей таки давала ход, но и то через раз, «для материала». В тот клятый день, в ответ на очередное бранное слово, брошенное в ее адрес, Лариса Константиновна огрызнулась в сердцах: «Никакой ты не художник, Адам, ты – Передонов, подлый и бессердечный. Никого не любишь, кроме себя. Эмоциональный импотент, вот ты кто! А еще… – И тут она выпалила: – Ты бесталанный обрубок мяса! Для поэзии нужна душа. А у тебя только кости и кожа – нет души. Ты – предатель». Конечно, после таких слов Адам порвал отношения с бабушкой вмиг: окончательно и бесповоротно. Так он и прожил в позиции полного отрицания, в каком-то дурмане своего мнимого величия. А потом его перестали публиковать… Упав в промоины своего тщеславия, он нередко вспоминал «бабулю», а прийти застыдился…
– Прости меня, бабушка, за мою нелюбовь, за то, что полюбить не умею. Может, я предатель-искариот, но кто же предал меня? Милая моя старая кровь, я собираюсь покончить с собой… совершить самоубийство, натуральное, – рожает он эти неживые, бесцветные слова, сдерживает подступающие рыдания. – Я так больше не могу: мне от себя тошно и от мира – какое-то бессилье, ни по чему не грустно. Мое существование – жизнь потворства и похоти – бессмысленно, оно не приносит радости ни одной живой душе… а ведь это главное! Отчего мне тогда оставаться в этом мире, коли есть другой, – может, лучший?.. А здесь у меня любви ни к чему и ни к кому нет – только к себе, и то… извращенная. Остается одно… Как подумаю – в жар бросает! А ведь это только мысль, далекая энергия, еще не существующая даже, – а тем временем страх удушает… сжимает тугие питоньи кольца на шее моей. Значит, решить нужно внезапно: как жил, так и помереть, – одним глотком!
– Умирай, коли решил. Какая разница, – говорит бабушка, не опуская бесчувственного взгляда. Губы ее – бледные. Мерно качается восковая фигурка – как пламя свечи, сквозная вся.
– Разве ты не видишь, что я страдаю! Но я готов страдать, даже страдать вечно, лишь бы человечеству польза была. От моей-то жизни – какой толк?.. А от смерти?.. Истребить источник зла! «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». «Можно умереть, но остаться жить для людей, и можно остаться жить, но быть погибшим». За возможность умереть я благодарю – Благо-Дарю! Смерть – предел мечтаний! это прекрасно! это здорово! это счастие! – Адам распалялся все сильнее, даже слезу пустил для острастки, и от этого пришел в особенный восторг. – Это избавление души от страстей! Почему человек страшится той правды? Потому что он боится пустоты: неизвестность есть Ничто. Всякий же верующий человек знает, что за Смертью не кончается Жизнь, но ею начинается. Значит, смерть нужно восхвалять, принимать ее с улыбкой, со спокойным сердцем, со слезами умиления; восхищаться ей нужно, потому что красива! Без нее не было бы Жизни, как без несчастного Иуды не было бы Великого Христа. Почему я горюю о своей будущей смерти? Потому что жил скверно, и трезво понимаю это: живи правильной, истинной жизнью, – и будешь бесстрашен ко всему. А истинная жизнь – та, которую мы можем назвать жизнью Духа, это энергия, которую в нас вдохнул Высший Разум, «нить небесная», объединяющая всех живых существ в одно Единое, называемое Богом. Я готов умереть страдаючи!
Бабушка мягко улыбнулась: словно кто-то подошел к окну, отцепил штору, и та, c громким «бам!» взлетая вверх, впустила плотный широкий луч солнечного света.
– В учении об апокатастасисе, – говорила она, – Ориген выразил: «Христос останется на кресте, и Голгофа продолжится до тех пор, пока хоть одно существо останется в Аду». Ты выбрал себе крест по размеру, взгромоздился на него поудобнее и картинно повис – вот все твое самопожертвование. Внучек, послушай меня, пожалуйста, одумайся: если бы только тебе стало известно, что твоя жертва будет вечной, что станет она бесконечно долгим кошмаром, и ничего хорошего не останется в твоей жизни, твоих мыслях, душе твоей, а только мысли о боли, – ну, скажи мне, играл бы ты тогда крестного мученика или бы снялся с креста, прокляв вчерашние обещания?
Ты чтишь Иисуса Христа – это хорошо. Но плохо то, что ты не хочешь замечать других «иисусов», которые живут и поныне; души распятые, они погибают рядом с тобой – во имя веры сделать человечество добрее. Они в других растворяются, облегчая скорби, – так творится Радость. Почитать нужно не Христа, а образ его, Дух, который жив во всех людях Земли. Ты «украсил» комнату иконами – не дурно это. Другое дурно – внутри тебя пусто. И ты боишься, потому что чувствуешь свою ошибку, стоишь на «пороге»… Тебе бы жить, да хорошим жить… А то голова у тебя нечистая – от плохих мыслей, темным набита. Вытравливает оно душеньку твою…
– Я больше ничего не боюсь… – И Адам постиг внезапно! Это пришло изнутри… Мысли стали ясными и легкими, и родили «целостность духовную». Перед взором его предстал прекрасный рубин – воспоминание некогда утраченного: исполинский драгоценный камень, мерцающий диковинным внутренним светом. Из рубина выросло дерево невиданной красоты, и тогда Адам сказал этому дереву: – О чудо ты, Древо Жизни! Я не привязан к этому телу, я не привязан к круговороту бытия. Для Души моей не существует физического, ощутимого блага. Благо – в самом существовании! Да стану я Собой на благо всех живых существ! Вспомню Себя! Я не рожден. Я бесконечен! Я вечен и непознаваем! Я есть Мир! Каждый человек есть Я! Я так тосковал по Себе!..
С каждым проговоренным словом Адама захлестывала Исцеляющая Сила, питала его страдающую душу влагой мудрости: он сидел в асане на белоснежном, прозрачном, будто обточенном светилом, облаке; небеса рыдали дождем… чистый свет касался, фосфоресцировал… какая-то успокаивающая, медитативная была невесомость: он не ощущал более тела… сердце пронизывали токи, и был только покой: он весь был своею Душой; он ничего не хотел; ничего не являлось важным; он являлся Ничем; он доверял всему, потому что не существовало неправды. В этот момент он страстно полюбил Жизнь. Не было ни Христа, ни Мухаммеда, ни Кришны, ни Будды, – никаких Учителей. «Я сделаю это без них!» Адам был счастлив! Душа его пела священное мантрическое заклинание… и он вторил ей – тихо-тихо…
– Бабушка, я так виноват перед тобой… Все когда-то было иначе – не забуду никогда: устроюсь дитятей на твоих коленках, ладошками закроюсь… – меня не видно, будто в норке. Только если пощекочешь… и так умильно, с любовью: «Скажи: ба-ба» – я напрягаю по-детски чистый лоб, глазки у меня миленькие, любопытные, как у щеночка… и, спотыкаясь, делаю первые па языком: «ба-ба» – какая всем чистая радость!.. И громкий смех прыгает-взлетает, как мячик, – смейтесь же, смейтесь на меня, родименькие! фарфоровые чашечки в старом серванте вздрагивают, точно и им смешно… и, по-моему, он где-то в воздухе, невидимый, – может, ангел-хранитель?.. – это все из-за меня. Я смотрю на всех вас стрелками света, как будто вы будете вечно… И давно уже нет нашего серванта, наших чашечек-хохотушек… как и вас самих нет, и даже того ангела-хранителя – и его уже нет…
Лишние мысли, ну к чему они сейчас лезут в голову?!.. Как же горько мне теперь… Все напрасно: годами ты травила свое существование обидами на меня, уберегала по зернышку зла в кладовые души своей, – напрасные, отравленные годы. Все твоя больная философия «крови» – пойми же, не ею роднятся люди. Истинная Любовь не ждет взаимности. Она существует вне условий и перспектив, такой любовью любит человека Бог. И я – подлое создание! – так говорил себе: «Если она злится – значит, она злая» – отвернулся, «сделал вид», бросил тебя. Погибай-выбирайся – клеймо Смерти поставил. Теперь, кажется, на мне оно… Какая неуклюжая рифма!.. Только над рифмой этой, как выжженная степь, простерлась целая человеческая жизнь; там серый ветер бродит, шевелит устами, взывая к милости Христа. Твоя жизнь, бабулечка… Как я люблю тебя! – мирно завершил Адам. – Я воскрешу тебя любовью своей.
Он едва коснулся губами ее рук… Бабушка посмотрела жалеющими, скорбными глазами, словно вымолвила: «Прощаю» – и воцарилась полная тишина. Где-то обломилась-сорвалась ветка – «испугала мгновение». Эфир, образ родного человека, постепенно рассеивался… стал гаснуть, уходить в свою «обитель». Он разошелся в воздухе, расплылся по нему дымом, от которого осталось одно лишь слово: «Яд». Потом и оно испарилось. Был слышен звон колокольни собора Рождества Пресвятой Богородицы. Пересвистывались засыпающие птицы. Плакал Адам.
Лариса Константиновна преставилась три года назад: померла в одиночестве, у нее произошло душевное расстройство – «душа сгорела». Страшно умирать в одиночку…
Адам стоял посреди двора, в морщинках у глаз скопилась «божья роса». Он смотрел сквозь небо – в грязи было небо. Пытался объять… и понять… Вода пролилась с тучи, ее уже туда не вернуть. Только если солнышко пригреет, попросит, – вода испарится, и вновь родится туча.
Адам покаялся и ему стало легко. Он и сам как будто стал легче… «оторвался от земли». Чтобы летать, нужно научиться избавляться от балласта, от лишнего. Наши обиды – наше «лишнее». Они не пускают нас на Небо. Мы копим их, прорастая корнями в ад.
За такими мыслями, «скучаниями», пришел вечер, пригласил с собой ночь…
«Луна бодрствует в ночи, ясен ее взгляд. Какая же Сила во мне! Топочет сердце, кровь бежит, – дышу, существую… и чувствую ядро Вселенной! Как это удержать в себе?! Воистину, Красота спасет мир. Красота духовная, нетленная вовеки, красота человеческого Сердца. Тело мое – храм Духа Святого, у него свой смысл и свое место, – теперь я этого не скрываю… и не боюсь. Я верю, ведь без веры жизнь невозможна. Больше ничто не застилает от меня света. Я возвращаюсь!»