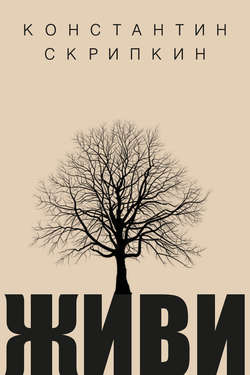Читать книгу Живи - Константин Скрипкин - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 2
Всякая всячина
ОглавлениеХудой человек в длинном, сером, чуть развевающемся снизу одеянии летел мимо меня в полуметре над землей. Находясь метрах в тридцати, он перемещался, чуть наклонившись вперед, достаточно медленно, чтобы его рассмотреть, но гораздо быстрее, чем люди, идущие обычным образом по земле ногами. Мне стало жутковато. Уже начало смеркаться, я был один, и хотя, согласно инструкции, при наблюдении каких-либо подозрительных объектов часовой должен поднимать тревогу, я стоял и тупо смотрел на этого летящего человека, или нечеловека… Не могу сказать, что ужас меня парализовал, или я покрылся холодным потом, или волосы у меня встали дыбом – ничего такого не было, но перетрухнул я основательно – чего греха таить. Фигура начала медленно приближаться, я на всякий случай снял с плеча автомат… и тут привидение превратилось в прапорщика Мацибуру, лихо катившего в своей длиннющей шинели на неизвестно откуда взявшемся в нашей части велосипеде, колеса которого в сумерках совершенно сливались с окружающим пейзажем. У меня на сердце полегчало, но стало тревожно за прапорщика, поскольку если уж я – уравновешенный и умудренный опытом старослужащий, принял его за летающего вурдалака, то кто-нибудь из молодых бойцов мог бы в подобных обстоятельствах и на курок нажать. Вообще-то на полевой выход (так мы называли учения) патронов нам не выдавали. Но с последних стрельб все, даже молодые бойцы, натырили себе патрончиков, надеясь подстрелить на учениях какого-нибудь зазевавшегося фазана или чего другого из богатейшей фауны нашего Забайкальского края, с целью потом ЭТО безжалостно сожрать.
Мацибура, и не подозревавший, насколько зловеще он выглядел с расстояния в тридцать метров, поехал дальше, а я остался на своем посту.
Стоять часовым у запасного входа в штабной бункер – занятие скучное, но спокойное и необременительное. Все офицеры и генералы попадают в бункер с главного входа, и там часовому приходится беспрерывно вытягиваться во фрунт, или делать вид, что вытягивается во фрунт, чтобы не напрашиваться на лишние неприятности. А у запасного выхода можно спокойненько сесть на деревянный ящичек, который заботливые бойцы заготовили для любимого дедушки, и без помех созерцать окрестности, пока легкие сумерки позволяют вести наблюдение. Унылые лысые сопки не составляют пейзажа хоть сколько-то живописного, но выбирать не приходится. Где-то вдалеке копошатся связисты, выстраивая на растяжках свои огромные антенны. Под чутким руководством старшины повар Свириденко готовит ужин, свободные от вахты молодые бойцы обустраивают наше полевое расположение, жадно принюхиваясь к запахам полевой кухни, писари раскладывают на столах в бункере огромные карты, чтобы завтра утром командование нашей тридцать шестой армии имело возможность проводить очередные полевые учения, для меня, надеюсь, последние. На дворе апрель месяц, а в мае, ну, в крайнем случае, в июне мне домой – в Москву.
Эти учения – небольшие. По крайней мере, нас – роту охраны и обеспечения штаба армии никем не усиливают. А помнится, как-то раз нам придали в усиление два взвода Даурской десантно-штурмовой бригады. Десантники были грязнющие, худющие, с суровыми лицами и не очень разговорчивые, но все колошматили об свои головы пустые бутылки из-под минеральной воды. Делали это они без всякого здравого повода, то есть совершенно не рассчитывая ни на какие дивиденды. Я лично наблюдал из укромного места внеурочного отдыха буквально следующее: идет себе боец-десантник один к расположению части, видит – валяется пустая бутылка. Он ее поднимает правой рукой, левой надвигает берет на самый нос, и буднично так, вроде даже без особого усилия – хряп, бутылку разбивает о свою голову. Не на спор! Не ради хоть какой-то соревновательности – просто так, для удовольствия!
Сразу после ужина я, с целью культурного политического знакомства, подтянулся поближе к этим голубым беретам, выделив из их числа авторитетных старослужащих. Мое сердце сжалось от тоски, когда они с суровым достоинством расстреляли у меня больше половины пачки сигарет, но зато после такой жертвы я счел себя вправе осторожно завести разговор об особенностях прохождения ими службы и воспитания молодых бойцов. Сам я тогда относился к солдатам, отслужившим год с небольшим – то есть был уже не молодой, но еще и не дедушка. Разговор не очень-то клеился, а уйти, не докурив, было как-то глупо, и черт меня дернул завести разговор про эти их бутылки и тактично спросить, как это они их так ловко бьют об головы. Заканчивая по глупости начатый вопрос, я уже приблизительно знал, каким будет ответ, и с тоской представлял себе развитие безобидной попытки потрепать языком с новыми людьми. Естественно, мне сквозь зубы заметили, что каждый, кто не засс…т, может это сделать совершенно легко и безболезненно. После такого поворота беседы у меня было три пути: первый – тихонечко уйти, потеряв свою честь и достоинство – путь совершенно не возможный, второй – сказать, что они, мол, идиоты ненормальные и головы у них только для того, чтоб об них бутылки бить, а я мол – свою голову такой бесполезной травме подвергать не собираюсь – за такое хамство была высоковата вероятность подвергнуть голову другой травме, чего тоже не хотелось. Оставался последний третий вариант – встать и со всего размаха разбить бутылку об башку, будто мне это нипочем.
Хорошо, что времени на размышления тогда не было. Некогда было представлять, как плачевно может кончиться эта затея, чтобы затем постепенно убедить самого себя в ее полной бесперспективности. Вместо этого пришлось подняться, взять бутылочку, припасенную кем-то для полезных целей под лавкой, на которой мы сидели, и, коротко осведомившись эдаким расслабленным тоном: «Как там вы это делаете…?», вмазать самому себе этой бутылкой по лбу, а точнее, по тому месту, где начинают на башке расти волосы. Это, как мне подсказали новые знакомые, самая крепкая поверхность на голове и если точно попасть, боли вообще не почувствуешь. Но бить надо резко и со всей силы. Я попал не очень точно. Удар пришелся чуть правее, изображение окружающего мира сначала поплыло куда-то в сторону, но секунды через две аккуратненько вернулось на место. Осторожно встряхнув головой, чтобы убедиться в ее рабочем состоянии, я потрогал моментально вздувшуюся огромную шишку. Бутылка была разбита вдребезги – мои новые знакомые дружелюбно похлопали меня по плечу и сказали что-то типа того, что и среди краснопогонников могут быть достойные люди. Мне уже не хотелось эти провокационные темы развивать, но я опять присел с ними на лавочку. Не то, чтобы мне хотелось дальше с ними трепаться, но я опасался, что не смогу ровно идти, поскольку голова все же немного кружилась. Когда это прошло, я откланялся и утопал, ничем не выдав своего не блестящего состояния.
Ошибкой моей было то, что, не утерпев, я пошел рассказывать о своей победе приятелю-повару, который в тот момент кашеварил под присмотром старшины, бдительно считавшего израсходованные банки сгущенки, тушенки и прочих продуктов. Рассказу моему они в целом поверили, меня похвалили, но… попросили повторить номер в их присутствии, что я попытался сделать, но, на этот раз, неудачно. Моя рука категорически отказалась второй раз бить бутылкой по уже травмированной голове – удар получился слабее, чем надо – было очень больно, но бутылка осталась целой. Повар со старшиной беззлобно посмеялись, я побрел к себе в расположение, размышляя, как было бы хорошо, если бы у меня все же хватило выдержки никому не рассказывать, и десантники сами уважительно и не нарочито довели бы информацию о моем подвиге до всего нашего подразделения, которое могло бы тогда оценить не только мое мужество, но и мою скромность. Увы мне, увы!
Да, учения на этот раз были весьма скромные. К нам не прилетали вертолеты, не было никаких проверяющих – тихие домашние учения штаба армии. Хорошо, когда нет парализующей все мыслительные способности нервотрепки, никто не бегает с одуревшими выпученными глазами, офицеры не орут, а обращаются к знакомым солдатам по именам, и я могу вот так сидеть, думать о демобилизации и вспоминать уже подходящую к концу службу.
Ощущения, что служба подходит к концу, честно говоря, нет. Вообще та самая гражданская жизнь, откуда иногда приходят письма, и которую мы видим по телевизору, представляется какой-то не вполне настоящей, не реальной. Типа ее вовсе и нет на самом деле. Интересное такое ощущение – знаешь, что есть другая жизнь, а не веришь. Я когда в командировке был в Улан-Уде, то немного вроде почувствовал, что есть этот другой мир – гражданский, а сейчас, всего-то через пару месяцев – и командировка уже сама кажется не очень-то реальной, хотя прекрасно помню, что она была.
Цель нашей командировки в Улан-Удэ была простая, но ответственная – получение какого-то прибора в штабе округа. Я был в подчинении майора предпенсионного возраста, который мне всю дорогу жаловался, что уволят его из Вооруженных сил только подполковником, а полковничья папаха ему уже никак не светит, ни при каких обстоятельствах. Я, конечно, ему сочувствовал на словах изо всех сил. Мы с ним так сокрушались по поводу несправедливости начальства, что я старичка прилично к себе расположил. Можно сказать, вызвал с его стороны большое доверие. А майору охота была в Иркутск к семье мотануть, раз уж рядом оказался, что он и сделал, захватив прибор, а меня, как сознательного и многоопытного бойца, оставил в Улан-Удэ дожидаться обратного поезда, притом, что билет до нашего города Борзя Читинской области был у меня только на завтрашний вечер. Для легализации вольного положения майор выписал мне увольнительную на два с половиной дня. Неприятная тонкость была в том, что такие увольнительные запрещено выписывать – положено не больше, чем на сутки каждую, а у моего майора, видите ли, бланков с собой не было, хотя ведь знал он, что едет в командировку с солдатом срочной службы, мог бы и позаботиться. Конечно, какой на хрен из него полковник? Я бы его так майором и дембельнул! За разгильдяйство и безответственность! Судите сами, у меня первый раз за целый год подневольной жизни появилась возможность вдохнуть вольного воздуха, я даже денег скопил из того, что мать мне присылала – целых сто рублей! Это, на минуточку, одна тысяча девятьсот восемьдесят восьмой год был на дворе – те старые рубли еще кое-чего стоили. И при этом я должен все равно, как будто в самоволке, прятаться от патрулей и, отравляя себе отдых, думать о перспективе провести остаток командировки в комендатуре. Да, майор, конечно, умный – сил нет, смотри, говорит, не попадись, а то очень меня подведешь. Только мне о нем и думать, подведу я его, говнюка старого, или нет.
Проводил я своего майора, на поезд посадил. Был бы платочек – платочком бы помахал. А время уже часов девять вечера. Я в этом городе Улан-Удэ первый раз в жизни, кругом ходят буряты мордастые, все в меховых шапках, хотя на улице уже тепло – весна, максимум минус пять градусов, а скорее уже и плюс. Да и небуряты тоже в шапках, такие рожи протокольные – вокзал все-таки. Я, недолго думая, сел в такси и говорю водителю: «Вези меня в ваше самое злачное улан-удинское место». А он мне: «Тебя в самое злачное не пустят в форме». Вот так! Дискриминация военнослужащих в полный рост! Я ему: «Тогда вези в менее злачное – в которое пустят». Поехали мы в видео-салон. Подвальное помещение, комната – метров тридцать, в углу телевизор среднего размера и стульев штук двадцать стоит для зрителей.
К моему большому сожалению, несмотря на поздний час, фильм был не эротический, а посвященный ужасам. А у меня привычка в то время еще оставалась с начального периода службы – как только где усядусь в тепле, да еще если свет выключен – сразу засыпаю! Это притом, что недостатка во сне давно уже не было – несколько месяцев. Ну, в общем, проспал я почти весь фильм, проснулся уже ближе к концу, как раз на экране сексуальная сцена начиналась – женщина снимала с себя одежду. Но видно было не очень хорошо, и быстро так она все с себя сбросила, а дальше начала с себя кожу стаскивать, мясо… и в результате остался один танцующий скелет. Такой был в этом фильме странный элемент эротики, прямо скажем – на любителя. А потом все – свет включили, и публика двинула к выходу, а среди зрителей две девушки симпатичные такие – русские. Мне терять нечего – я к ним. Девчонки, говорю, может нам познакомиться и куда-нибудь сходить совместно, я, мол, из Москвы, вообще-то, здесь у вас в командировке… и все в таком духе несу, а сам иду с ними на выход из этого подвальчика. А они ко мне так – ни то ни сё, переглядываются, хихикают, определенного ничего не говорят. Я с ними болтаю, а сам башкой кручу во всех направлениях, думаю, может другая какая еще подходящая для меня женщина имеется в зале. А народ растекается по домам – не успеваешь никого отследить. Выходим с ними на улицу – там прямо перед входом комендатурская машина – раскрашенная такая, с прожектором на крыше. И на меня сразу свой прожектор как наведут… ну, думаю, все, теперь вместо девочек, будут тебе мальчики… в камере предварительного заключения. Девки тоже немного оторопели от такого освещения, замерли вместе со мной. Такой у нас, наверное, вид был дурацкий… А из уазика через громкоговоритель раздается голос патрульного офицера: «Служивый, шапку переверни!». Я хвать за шапку, а она у меня кокардой назад – второпях перепутал. Ну и все, мы двигаемся к автобусной остановке, меня вроде не задерживают… я в сторону уазика головой быстренько кивнул, спасибо мол, что не арестовали, но стараюсь сам в их сторону не очень-то смотреть. Тут автобус рейсовый подходит – снова повезло, и девки говорят: «Ну, что с тобой делать – полезай с нами…». Я и запрыгнул в этот автобус – секунды не прошло. Подвезло мне, дураку… Назавтра мне моя новая знакомая пояснила, чем мотивировалось такое их решительное поведение. Просто одна из подруг решила во что бы то ни стало расстаться с терзавшей её девственностью, а вторая ей предложила без лишних заморочек найти кавалера в видео-зале, который я к счастью и посетил. Они меня еще в начале сеанса заметили, оценили, что чистенький, аккуратный солдатик, крупненький такой. Решили, что солдат – это даже хорошо с той точки зрения, что риск инфекций меньше. Но в последний момент подруга-девственница испугалась, и вторая решила – не пропадать же добру. А я не мог понять, чего это мы делали. Сначала к одной домой поехали. Заходим в квартиру – там все спят, на цыпочках прокрадываемся к ней в комнату, а другая вроде собирается уходить. Ну, типа, нас проводила – и все. Девушка садится на кровать и сидит, смущенно на меня посматривая, тут открывается дверь и подруга, которая должна была уйти, мне говорит: «Ну, долго тебя ждать, ты едешь или нет?» Я, конечно, в недоумении, но мое дело – солдатское, ехать, так ехать. Я и раздеться-то не успел. Поехали к другой, с первой тепло попрощались, она даже и виду не подала, что что-то не так.
Приехали в маленький деревянный домик вроде барака, зашли вместе, как ни в чем не бывало, она мне выпить поднесла, рассказала, что муж у нее – машинист на поезде, и в настоящий момент в рейсе, но все равно, нужно быть аккуратнее, поскольку соседи очень бдительные. А дальше, как говориться, мирком да за свадебку… Ничего не скажешь, удалось мне в ту ночь восстановить в своей памяти, как женщина выглядит. Но, подробности прежних мужских достижений смаковать – дело не благодарное, тем более, солдату вообще лучше на этом не зацикливаться. Не дома ведь – в казарме живешь.
Хотя, по этой части у нас еще не все так безнадежно – мы в городе служим. А есть такие подразделения – Укрепленные районы, УР-ы сокращенно, там вообще одни сопки кругом и танки военного еще выпуска, Т-34, в землю намертво закопанные в сторону братского Китая. И остается там бойцам срочной службы только друг на друга плотоядно посматривать.
Много у меня всякого было за время срочной службы – и хорошего, и плохого, но кое-чему полезному мне пришлось-таки научиться. В учебке, где начиналась моя воинская служба и приобреталась военная специальность – разведчик, был девиз: «Что увидел, что и спиз…л». Все пропадало в той воинской части – не успеешь оглянуться. Даже шинели тырили с вешалок, не говоря уж о том, что погоны с шинелей, петлицы срезали, это – вместо здравствуйте. Мы в ночь перед строевым смотром часовых выставляли возле шинельной – все по очереди караулили. А такого слова: «У меня украли», там не было, если чего пропало: «Ты сам прое…л» – соответственно, сам виноват. Наверное, по соображениям наших командиров это все должно было у бойцов вырабатывать бдительность и проворство.
Я, кстати, по части чего где упереть – был одним из лучших во взводе. Меня в учебке звали Коробь – с ударением на первом слоге. Наверное, потому, что у меня фамилия Корабленко. Ну и однажды поставлена мне была на ночь задача от лица заместителя командира взвода старшего сержанта Овчарова – укомплектовать к утру пожарный щит. Для этого необходимо было украсть где-то лом и ведро, а, кроме того, добыть красной и черной краски, чтобы все это покрасить. Этот наш дедушка – Овчаров, такой был сволочью – вспомнить страшно. Москвич, земляк мне. Жирный был такой, губастый – нас вообще за людей не считал. Воспитывал он нас по Макаренко, активно применяя принцип коллективной ответственности. Если кто-то один провинился с его точки зрения, мы все одевали противогазы и дружным строем бежали в сторону сопки Любви, которая еще называлась у нас Ебун-гора (не хотелось выражаться, но из песни слова не выкинешь). И по этой самой сопочке вверх в противогазиках нарезали мы из последних сил, часто вместо ужина. Тех, кто падал, – остальные тащили, а даже и на небольшой дистанции падало до половины личного состава, поскольку это был период адаптации к новым – армейским условиям, и все мы как-то внезапно для себя за месяц-полтора стали заморенные и доходные, как кучка инвалидов. Сейчас вспоминаю – удивительно, но так со всеми бывает, пока не привыкнет организм. Меня когда в учебку отбирали, я двенадцать раз подтянулся на перекладине и тридцать раз сделал подъем переворотом, а по истечении первых двух месяцев службы висел на турнике, как сосиска, не будучи в состоянии сделать вообще ничего, даже висеть не мог больше нескольких секунд – срывались руки. Так что были мы все еле живые, но по команде собирались, затравленно оглядываясь, чтоб лишнего пинка не получить и семенили в сторону сопки любви. Овчаров с нами бежал – без противогаза, конечно, в кроссовочках, и тех, которые отставали или сачковать пытались, подгонял – кого пинком, а кого и ремнем с бляхой. Он у нас такой был идиот, что его на прошлом призыве чуть в дисбат не отправили – как раз ременной бляхой пробил молодому бойцу голову. Даже суд был, но решили не сажать, как образцового сержанта, а просто лишить отпуска. Так что лучше было мне щит укомплектовать без накладок и залетов – для всего взвода лучше.
Краску я проще всего добыл – выменял ее на рыбу. У нас тогда в столовой рыбу давали – жареную. Ее когда вареную дают – никто не ест, а жареную все любят, но ходить на ужин дедушкам лениво, и если им рыбки притащишь побольше, то можно чем-то полезным разжиться. Выпросил я в столовой огромную тарелку рыбы – наврал, что меня послал кто-то из уважаемых столовским нарядом людей, и потащил эту рыбу к литовцам знакомым, они были по технической части – имели свободный доступ в механическую мастерскую, там наверняка можно было краской разжиться. Если, конечно, повезет. И мне повезло, хотя и тут не обошлось без тонкостей. Литовца главного звали Саулис, но он ненавидел, когда к нему на русский манер обращались, а любил, чтобы говорили с его родным литовский акцентом, растягивая последний слог и почти не произнося последнее С, получалось Сауле-ее. Я быстро научился эту абракадабру произносить, и он меня среди прочих бойцов милостиво выделял и даже иногда говорил нашему замкомвзвода: «У тебя, Овчар (это сержанты нашего Овчарова так звали между собой за злость), все такие тормоза в этом призыве, чего ты с ними делаешь? Разве что Коробь, хоть чуть-чуть расторопный». Овчар уважал оценку литовца – мой авторитет капельку подрастал. И вот припер я им в мастерскую эту рыбу – самому жрать охота, как блокаднику, но не до этого, стучу условным стуком – открывают. Чего надо, мол, солдат? Я говорю, вот рыбки вам принес, сегодня хорошо поджарили, и без паузы про свое… дайте, говорю красочки черной и красной по полстаканчика – одна на вас надежда. Они как начали ржать, чуть по земле не катаются. Но рыбу взяли, и краски дали – даже больше, чем нужно было – у них этой краски – по целой бочке стоит в углу. Чего им не дать хорошему человеку казенного имущества? Ну, все вроде и, слава богу, мне бы идти себе восвояси, а рыбки жареной охота – сил нету. Я и говорю им, так вкрадчиво: А нельзя ли вас попросить мою тарелочку освободить, поскольку, я ее должен вернуть в столовую. Под свое честное слово взял, мол всего на полчасика. Ну, им не удобно чего-то там перекладывать, рассортировывать, они решили тут же эту рыбу и сожрать, тем более, что уже собирались ужинать. А меня куда девать? Некуда – маячу я у них, как прыщ на видном месте. Выход один – сажать меня за стол. Отлично я в тот день поужинал! Кроме моей рыбы у них еще своего было – и колбаса, и огурчики, и картошечка вареная. Но я, вел себя сдержанно, ложку постоянно сверхъестественным усилием воли тормозил, кушал почтительно и скромно, чтобы не опозориться. Даже чай с печеньем пить не стал, нужно было и честь знать.
Прибежал в роту, краску сдал под охрану дневальным, наш взвод как раз в наряд по роте заступил, и бегом назад, время не ждет – краска-то есть, а красить ею еще нечего. Надо лом и ведро добывать! Лом я быстро нашел – пробежался вокруг всего нашего военного городка – гляжу, связисты чего-то ковыряют в асфальте инструментами, как нельзя лучше для меня подходящими.
Все поголовно – моего призыва, то есть самого первого. Еле руками шевелят – отупелые все какие-то, худющие, грязнущие. Ну, я к ним подхожу, бойцы, говорю, дайте ломик на пару минут, мне рядышком нужно ковырнуть кое-чего. Они рты пораззявили – их, похоже, предупреждали, что разведчикам в плане имущества верить нельзя, но лом дали, а мне больше и нечего с ними беседовать, я три шага спокойных сделал, а потом как дал газа – и бегом с этим ломом удрал. Не знаю, как уж они потом со своими сержантами объяснялись – забота не моя. С ведром оказалось гораздо сложнее. Ведро – вещь в хозяйстве очень полезная, и в советской армии об этом знали все. С целью предотвращения массовых хищений ведер им варварски дырявили днища, с таким же, наверное, остервенением, с каким наши деды дырявили немецкие танки. Я на своем опыте тогда испытал, как сложно найти недырявое ведро. До самой ночи проколбасился, сунулся всюду, где еще было можно (некоторые сектора по известным причинам лучше было уже не посещать) – но ведра так и не раздобыл. Пришлось идти на неприличный поступок – упереть ведро с такого же пожарного щита в штабе моего родного разведывательного батальона. Это в целом было не так здорово, как у чужих, но допустимо. Я спокойно лег вздремнуть, попросив наряд разбудить меня в три часа, когда, закончив уборку, из штаба уходили дневальные, и оставался только один дежурный офицер за пультом. Потом я прокрался к штабу, посидел возле него тихонечко в травке минут пятнадцать, как тушканчик – послушал, убедился, что все вроде тихо, и тогда уже, подобно змейке, осуществил проникновение в штабной предбанник, где и находился идеально укомплектованный пожарный щит. Офицерский пульт располагался посередине коридора, а я возился в тамбуре – да еще с торца здания. Аккуратненько отцепив полиэтилен, ровно настолько, сколько было нужно, я прямо-таки хирургически извлек вожделенное ведерко, не позволив ничему кругом издать ни звука. Выскользнув за дверь, я примчался в наше расположение и завалился спать, отдав ведро наряду, с указанием, чтобы они сами все покрасили и развесили. Я свою работу сделал!
Но у своего брата солдата тырить – любой дурак сможет, а вот совершить нечто подобное в отношении гражданского населения – это уже другой уровень, скажу я вам. Но и здесь жизнь меня заставила меня кое-чему научиться. Однажды, будучи в наряде по директрисе (это танковое стрельбище и полигон, находящиеся всегда в отдалении от самой воинской части), я участвовал в натуральном воровстве домашней птицы из частного крестьянского хозяйства. Это, кстати, очень тонкое дело. Прежде всего, надо знать, что лучший объект для такого рода операции – семейства, которые накануне крепко выпили. Жители редких деревень, окружавших нашу военную часть, выпивали, как только им представлялась такая возможность – то есть как только им в руки попадал алкоголь. Достаточно было получить такого рода разведданные, и успех почти гарантирован. Домашняя птица – утки и куры – ночью располагаются в таких низеньких сарайчиках по высоте – в половину человеческого роста, где они мирно спят, привычно засунув голову каждая себе под крыло. Если во дворе нет собаки (это выясняется, конечно, накануне днем), ударная группа из двух человек с мешком бесшумно форсирует забор и тихонечко, согнувшись в три погибели, проникает в этот птичий сарайчик, преодолевая страх, запах куриного помета и желание чихнуть от постоянно лезущей в нос всякой птичьей дряни. При этом третий боец, выполняя функцию прикрытия, должен остаться вне территории частного владения и вести наблюдение за домом с целью отвлечь на себя внимание хозяина в случае опасности и одновременно подать сигнал к отходу основной группе. Основная группа состоит из двух человек, поскольку один держит мешок, а другой – самый опытный, выполняет филигранную работу по перемещению домашней птицы с насеста в недра мешка. Дело в том, что домашняя птица, попав в темный мешок, не издает звуков, а просто замирает, наверное, она считает, что уже отмучилась и находится на том свете, я не знаю – но всегда птица в мешке ведет себя тихо – это медицинский факт. Вопрос в том, как ее снять с насеста и сунуть в мешок, чтобы не проснулись все остальные. Напоминаю, это нужно сделать так, чтобы птица вообще не издала никаких звуков. Следующий шаг логического исследования: какими органами домашняя птица может издать звук? Городские жители при формулировке этого вопроса начинают глупо улыбаться, наверное, имея в виду птичьи клоаки, но птицы этим местом звуков не издают, по крайней мере, звуков, способных разбудить соседей-птиц и хозяев. Есть только два звукоопасных органа – крылья и клюв, и оба эти органа необходимо одновременно и молниеносно обездвижить. При этом птице нельзя скручивать голову – она должна жить еще несколько дней, пока до нее не дойдет очередь на съедение. Нужно просто-напросто аккуратно схватить птичку одновременно за клюв и за крылья, и тихонечко, не потревожив соседей, очередь которых еще не пришла, сунуть ее глубоко в мешок. Проделать эту операцию с уткой реально, с курицей – практически нет. Почему? Да потому, что у курицы очень маленький клюв – за него не ухватишься! К сожалению, птицы дрыхнут на своем насесте вперемешку – утки, куры, еще какие-то другие, но брать нужно только уток, пока это возможно. Как доходишь до курицы – лучше не жадничать, и начинать завершающую часть операции – смываться. Некоторые особо рисковые солдаты хватают и куриц, слегка перекручивая им горло, но если удалось уже сунуть в мешок хотя бы трех-четырех уток, я с курицами связываться не советую.
Сижу, вспоминаю – шустрым я, все-таки, был бойцом! Изобретательным. Из нынешних молодых такой проворностью, пожалуй, никто не отличается. Какие-то все они заторможенные. Не та у них служба уже, что у нас была! Задачи им ставятся совершенно примитивные – типа найти сигаретку, или в гражданскую булочную сбегать за хлебом, в редчайшем случае – на шухере постоять, и то есть опасение, что он на этом шухере заснет. Ну, да ничего – научатся, если повезет. Я с молодыми бойцами вообще стараюсь вести себя по-человечески. Не зря меня два последних призыва назначали в карантин сержантом, как наиболее образованного и культурного человека в подразделении. Интересно так, приезжает пополнение – еще в гражданской одежде, карманы полные сигарет, деньжат и всякой всячины, смотрят исподлобья, кучкуются, друг с другом перешептываются, на меня позыркивают не очень дружелюбно. Это они ждут, что сейчас начнутся издевательства, и готовятся мне давать отпор. Они пока еще люди гражданские – у каждого своя индивидуальность, свой гражданский характер, на них еще как сядешь, так и слезешь. Тем более, что попадаются такие крупные экземпляры, просто диву даешься – где таких выращивают. И все в мускулатуре, какие-то самбисты – каратисты. Иные просто ждут, когда в их отношении осуществят наконец попытку неуставных отношений с тем, чтобы немедленно на нее отреагировать избиением старослужащего, рискнувшего посягнуть на их гражданские свободы. И вот из такого материала мне нужно за каких-то месяц-полтора создать врубастых, грамотных бойцов, чтобы на меня обид не было среди сослуживцев, которым с этим молодым пополнением придется выстраивать отношения в процессе службы. Я молодых сначала не трогаю. Пока они в гражданке – вообще делаю вид, что не замечаю даже очевидного хамства в их поведении. Идут себе как стадо, без разрешения закуривают, садятся, ко мне норовят «на ты» обратиться, я все это терплю сдержанно, но, конечно, соблюдая дистанцию, никакого панибратства не допускаю, даже от предлагаемых сигарет отказываюсь. Они еще не знают, что через три дня будут меня сигаретами снабжать, как отлаженный конвейер, и не в виде одолжения, а в виде своей прямой и священной солдатской обязанности. На их глупые вопросы отвечаю уклончиво и односложно – пусть потомятся в неведении. Мой воспитательный процесс еще впереди.
Первым актом приобщения к солдатской жизни для молодого бойца является посещение бани, рядом с которой располагается склад вещевого довольствия. Юноши по-быстренькому моются, тихонько договариваясь между собой, чтобы кто-то один караулил их вещи. Поскольку кроме меня при них в бане никого больше нет, видимо, они предполагают, что я начну тырить у них из карманов мамины конфетки и личные сбережения. Правда, друг другу они тоже не очень-то доверяют, и с эдакой подростковой наивностью, озираясь, тихонечко запихивают в свои скомканные носочки и трусики ценные вещи. Святая простота! Наука по-настоящему прятать, а также находить спрятанное, им еще не доступна в принципе! Помывшись, они пытаются облачиться в обмундирование, которое, как им кажется, выдано без учета размеров и ростов. Обнаружив, что форма сидит как-то странно, и выглядят они скорее жалко, чем героически, некоторые пытаются искать справедливости у меня, на что я резонно замечаю, что здесь армия, и нянек тут не бывает – нужно было сразу смотреть, какой размер получаете. На самом деле, большинство из них зря трепыхается – размеры они получили правильные – у сержанта на складе глаз-ватерпас, просто, чтобы армейская форма сидела, к ней нужно приложить труд и терпение. Единственное, что я у каждого проверяю, так это сапоги. У одного или двух нахожу их великоватыми – они, вероятно, прибавили себе размерчик, в надежде, что носить придется с шерстяным носком, как дома на гулянии, но в армии носков по уставу не положено, и, если сапоги велики, то ноги в них сбиваются гораздо быстрее. Провожу на эту тему воспитательную беседу, заодно показываю, как наматывать портянки. После переодевания гражданского самосознания у пополнения убавляется, они уже начинают ощущать себя тем, кто они есть на самом деле – ничего не понимающими в армейской службе, жалкими дрожащими созданиями. Они принимаются смотреть на меня во все глаза, ловят каждое слово, не переспрашивают по десять раз о всякой ерунде, в общем, начинают вести себя немного поприличнее. Напоминаю им, чтобы не растеряли погоны, петлицы и фурнитуру, и уже в составе чего-то похожего на строй отвожу их в расположение нашего карантина.
В первую ночь обязательно приходится пресекать попытки разного рода старослужащих проникнуть в карантин и «застраивать» молодых. Я терпеливо объясняю желающим мне помочь, что сам прекрасно справлюсь с воспитанием, и через полтора месяца они получат в свое распоряжение воспитанных бойцов, но при этом прошу не мешать сложному образовательному процессу. Разговор обычно происходит в предбаннике, и многие из подшивающихся и наглаживающихся молодых бойцов могут слышать отдельные фразы, которые пугают их и переполняют уважением ко мне, как к защитившему их от чего-то ужасного. Я, действительно, не собираюсь пускать никого в свой огород, поскольку интересует непрошеных гостей не процесс становления молодого солдата, а, в первую очередь, содержимое его карманов и его гражданская одежда, которую юноша наивно собирается отправить домой в виде ценной посылки. Все эти материальные ценности уже принадлежат мне, хотя молодые еще об этом и не подозревают. Старослужащие об этом знают хорошо, поэтому и не нахальничают. Уходя, они вежливо просят меня подобрать им что-нибудь из гражданки, я обещаю поспособствовать, давая понять коллегам, что бесплатные одолжения в нашем мире давно не предусмотрены.
В течение следующей недели с моим подразделением происходят революционные метаморфозы. Их жизнь приобретает армейские очертания – они не высыпаются, устают, пытаются привыкнуть к новому для них режиму питания и к новым жизненным установкам. Одних это вгоняет в состояние тупого оцепенения, другие не поддаются усталости и пытаются чем-то позитивным выделиться на общем фоне – таких я стараюсь морально поддерживать и поручать им задания, связанные не столько с физическим утомлением, сколько с расторопностью и сообразительностью. Хуже всего тем, кто начинает себя жалеть – хромает из-за микроскопической потертости на пальчике так, будто оторвана ступня, по каждому поводу живописует на лице эдакое жалостливо-плаксивое выражение, перестает мыться и заботиться об обмундировании, аргументируя это тем, что всегда хочет спать, начинает таскать в карманах куски хлеба и постоянно тупит, надеясь, что признанному дураку не будут давать лишних поручений. Таких приходится бодрить дополнительными физическим нагрузками и всеобщим презрением. Жалко их, но, если реагировать по-другому, эта зараза может пойти дальше, и все подразделение будет вместо выполнения команды жалостливо закатывать глаза и объяснять, что там у них болит, где колет, сколько они спали и так далее. Одного-двух таких ребят приходится приносить в жертву, на их примере демонстрируя пагубность этой жалкой модели поведения, недостойной молодого бойца. В редких случаях они потом выправляются и дослуживают нормально, но чаще попадают в госпиталь, и, возвращаясь в часть, продолжают ныть, тормозить и косить от работы. Ничего не поделаешь – потери. Если у таких бойцов прослеживается хоть какая-то воля к победе, я стараюсь их поддержать – мне вообще неприятно смотреть, как человек опускается. Если таковой не наблюдается – мое дело сторона.
Постепенно молодые бойцы начинают понимать, что жить по уставу – занятие тяжелое и бесперспективное. У них мало-помалу формируются правильные установки – кто чего обязан делать, и как к кому относиться. Шустрые постигают это быстрее других, постепенно доходит и до непонятливых. Сознание вчерашних независимых людей превращается в сознание солдат-первогодок. Они уже понимают, что глупо отправлять свою гражданскую одежду домой, когда она так нужна дедушкам для самоволок. До них, наконец, доходит, что неприлично и безнравственно курить сигареты с фильтром, тратить деньги на пирожки в солдатском магазине, когда дедушкам нужно собираться на дембель, а это такие расходы! Они начинают понимать, что если я дал кому-нибудь пинка или скажем под дых, это не оскорбление и не повод для озлобленности или для драки, упаси бог, а просто дружелюбное отеческое поучение! И нет ничего зазорного в том, чтобы метнуться дедушке за сигареткой, а наоборот хамство – заставлять его в такой ситуации ждать. Для гражданского человека все это, наверное, дикость, но я глубоко уверен, что в нашей армейской идеологии имеется большой логический смысл, и ее можно отнести к некоему ответвлению конфуцианства. Молодые бойцы – они как неразумные дети, а я им – как родной отец. Ни больше, ни меньше. Коль скоро их собственные отцы не смогли ничего лучшего придумать, кроме как детей засылать в ряды Советской армии, пусть на меня не обижаются – исходя из сложившихся обстоятельств, ничего лучшего предложить не могу.
Если бы каждый из молодых цеплялся за остатки прежней жизни, за свои домашние воспоминания, то существование здесь было бы совершенно невыносимым. Они должны осознать, что реальность – здесь, а там, на гражданке, что-то в туманной дали и не совсем взаправдашнее, иначе сердце просто разорвется на части, и адаптации к новым условиям не наступит никогда. Чем кардинальней и быстрее они поменяют свою картину мира, тем им легче будет начать с чистого листа впитывать законы новой жизни, чтобы найти здесь свое место, которое было бы достойным человека.
Конечно, среди старослужащих попадаются негодяи, которые любят просто поглумиться, просто опустить человека, заставить его признать свою ничтожность и презренность, а потом уже пользоваться этим деградировавшим существом в зависимости от своих извращенных потребностей. Я здесь не имею в виду всякого рода сексуальные притязания. Слава богу, я с подобными вещами напрямую не сталкивался, а вот как в рот молодому бойцу пепел стряхивали, а потом ему бычок потушили об запястье – это я видел. Ему горящую сигарету в левую руку вкручивают не торопясь, а он сам ее держит правой, ногами топает от боли, приседает, лицо все перекошенное, но молчит – потому что время уже после отбоя, неприлично чужой сон нарушать. Это ефрейтор Халиков наказывал своего подчиненного за какую-то «большую» провинность по службе. Вмешиваться я тогда не стал – не мой вопрос. Но дружбы я никогда с такими подонками, как этот ефрейтор не водил, и дел с ними никаких не имел. Кстати говоря, зачастую они сами, когда были новобранцами, подвергались особо изощренным издевательствам – вот и отыгрывались потом на молодежи. А еще, бывает, заставят двух бедолаг-первогодок драться между собой. Жуткое зрелище! Бойцы от ужаса входят в раж, колошматят друг друга по мордам, кровища кругом разлетается…
Все всегда и везде, от человека зависит, любой закон, любой порядок можно перевернуть и раком поставить и будет к тому много желающих – нужно просто этому сопротивляться по мере возможности. Честно сказать, у меня, в соответствии с моей внутренней позицией, такой твердости не всегда доставало. Сейчас стыдно мне за некоторые вещи, которые происходили в моем присутствии, но были и приятные моменты, когда удавалось человека поддержать в казалось бы безвыходной ситуации.
Как-то раз в нашей роте объявился педикулез, то есть вши. Вши были бельевые, их личинки можно было разглядеть с изнанки кальсон на швах. Неприятная, могу вам сказать штука. Все тело чешется и горит огнем, как Хиросима и Нагасаки. Я-то сразу смекнул, чего делать – белье утюгом прошпарил, сам весь намылился хозяйственным мылом, подождал минут десять, смылся тщательно – все прошло. Но это, наверное, потому, что у меня тело не волосатое, а у кого больше волос, например, на ногах, то мылом этих вшей не возьмешь, нужна специальная серная мазь, но она в санчасти, а туда придется прийти и признаться, что у тебя вши. Для многих молодых бойцов, которые и так о себе невысокого мнения, и прямо сказать, моются реже, чем каждый день, такой шаг был совсем невозможным. Им, наверное, казалось, что признаться в подобном преступлении – значит потерять последнее уважение к себе со стороны сослуживцев. Хотя позиция глупая – вши, в конце концов, не от грязи заводятся – это заболевание типа инфекции, как я считаю. А ходить и чесаться – тоже не выход. Во-первых, имеется вероятность распространения заболевания, а во-вторых, расчесанное до крови тело в забайкальском климате не заживает, а становится язвой, потом подгнивает, подгнивает, и может очень даже тебя изуродовать. У меня были такие язвы – две штуки от потертостей на ногах. Я их бритвой вырезал, засыпал стрептоцидом, повязку менял каждый день, все равно они прогнили почти на сантиметр вглубь моей ноги – жуткое дело! И вот одного такого завшивевшего бойца рассекретили случайно его старослужащие товарищи. Обнаружили у него сначала характерные расчесы, а потом и личинок вшей в белье. И, конечно, давай его мордовать, как он такой-сякой посмел дедушек подвергнуть опасности заражения ужасной болезнью, и все ему припомнили, что раньше за ним числилось, пару раз по роже смазали и все такое. Он стоит, бедняга без штанов, кальсоны свои держит в руках, лицо виноватое, голову в плечи втянул, крутит башкой своей березовой, не знает, откуда еще прилетит ему гостинец. И, конечно, громче всех надрывается ефрейтор Халиков, я подхожу и слышу, как он орет на парня: «Ну, ты же чмо! Согласись, ты же чмо! Мы тебя теперь и звать так будем – чмо!!!» Я иду мимо, а Халиков этот дает такой сопроводительный текст, обращаясь к своему солдатику, который месяца три как из карантина: «Вот сейчас мы у Коробя спросим, у вашего любимого сержанта карантинного, чмо ты или нет?» А ефрейтор этот – он на полгода меньше меня отслужил, но наглый был до безобразия. Наверное, потому что он был очень хороший спортсмен – боксер. Он даже на последних междивизионных соревнованиях какое-то место занял. Я поворачиваюсь и спокойно так уточняю у Халикова: «Ты хочешь, чтобы я свое мнение сказал? Я тебе скажу. Я этого бойца знаю, он у меня в карантине был на хорошем счету – помидоры с колхозного поля таскал, мог картошечки в один момент нажарить, не тупил. Я его обучил кое-каким правильным понятиям, кого нужно уважать по службе. У тебя, Халиков, к его воспитанию претензий нет?»
Ефрейтор молчит, видимо, размышляет, стоит со мной драку затевать по этому поводу или нет. Пока он думает, я продолжаю: «Так вот, он у меня был одним из самых толковых, а у вас за три месяца превратился в забитого и доходного! Но все равно, я тебе сейчас скажу, ефрейтор, что он не чмо! Потому, что, дай ты мне его на неделю обратно, он у меня летать начнет как прежде. Понятна моя позиция?»
А Халикова, надо сказать, в роте вообще недолюбливали. Был у него грешок – любил перед офицерами в хорошем свете повернуться, ну, вроде как выслужиться с повышенным рвением – за что и стал ефрейтором. И лычку эту свою ефрейторскую с удовольствием на погоны напялил, что тоже не очень приличным считается. Мог я тогда, конечно, пострадать от его боксерских кулаков, и, что еще хуже, это означало бы, что на меня – дедушку, котелкам можно руку поднимать, а это гораздо трагичнее, чем просто получить по физиономии. Но тогда обошлось, не решился он, по счастью. А молодой этот стоит, глазами хлопает… Халиков, хитрый, гад, тут же и говорит: «Ну, ладно, раз Коробь за тебя такую речь произнес, может ты и вправду талант, а мы тебя не разглядели, иди пока в санчасть, выводи своих животных, потом посмотрим, что с тобой делать…». Вроде как он тоже не живодер, а справедливый начальник. Парень бегом убежал, на меня даже глянуть побоялся, но после этого человек двадцать молодых решились пойти в санчасть, взяли мазь, и педикулез в нашей роте прошел, слава богу.
Мне, честно говоря, педикулез в тот момент был особенно нежелателен, поскольку я как раз имел роман с одной из сотрудниц штабного машинописного бюро – Людочкой. В борьбе за эту миниатюрную девушку я, по некоторым сведеньям, конкурировал с самим нашим ротным – капитаном Осмоловым.
По роду службы мне тогда пришлось освоить штабную рекогносцировку, поскольку я через день ходил в наряды по штабу – помощником дежурного. Разнообразные мелкие поручения нет-нет, да приводили меня в машинописное бюро, где работали всего две женщины. Одна из которых – Елена Петровна, была женой начвеща, а вторая, просто вольнонаемная девушка из местных. Они были не очень загружены работой, и Елена Петровна, будучи дамой с фантазиями, почему-то постоянно нас с этой Людочкой сватала. Конечно, в виде шуточек и намеков, но каждый раз эти пассажи были на одну и ту же тему: Чего это я – такой красивый и стройный (в ее понимании) сержантик (тем более москвич), не поухаживал бы за такой очаровательной и образованной девушкой. Я, твердо зная свое предпоследнее место в штабной иерархии, довольно долго воспринимал эти намеки как шутки в чистом виде, делал эдакую лучезарно-глупую улыбку скромного и неискушенного в делах сердечных солдатика, в душе недоумевая, чего эта тетка не может найти других тем для разговоров, пока я занимаюсь перестановкой их мебели, или пришел отнести-принести документики для распечатывания. А Елена Петровна не унималась. Она наливала мне чаю и просто требовала, чтобы я как-нибудь на выходной приехал к Людочке в гости, взяв увольнительную. Это при том, что сама мадмуазель сидела рядом и никуда меня не приглашала, а только неопределенно хихикала. В итоге, как Елена Петровна хотела, так и получилось. Люда вроде как нехотя и под давлением старшей подруги дала мне свой адрес, и я приехал к ней в одно из воскресений, купив цветочков и маленький тортик, на что ушла вся моя денежная заначка, оставленная было на сигареты.
Больше мне и делать ничего не пришлось, все было практически само собой. Помню, как Людка веселилась, обнаружив на мне отсутствие трусов. Хотя чего тут смеяться, трусов в армии не положено, только подштанники, это знает каждый ребенок. У меня, правда, как у старослужащего, вместо солдатских кальсон были мягонькие тренировочные штанишки, которые я самостоятельно стирал, не реже одного раза в неделю. Кстати говоря, никогда я не припахивал молодых к стирке своей одежды. Всегда сам своей стиркой занимался.
С тех пор я к Людочке пару раз в месяц обязательно приезжал, получив увольнительную, и мы чудненько проводили с ней время, не вылезая из недр ее разложенного диванчика. Так что навещать девушку, имея подозрение на педикулез, совсем не хотелось, и я был очень рад, когда это бедствие нас, наконец, миновало.
Как начнешь вспоминать, столько всего поучительного лезет в голову, что даже мысли путаются. Ну, да кому это все надо? Людям только кажется, что их собственная судьба может кого-то заинтересовать. У нас вот в роту с месяц назад прибыли ребята, выведенные из Афганистана. Все из госпиталей, один без двух пальцев на левой руке – они у него болят, как погода меняется, другой контуженный – вообще жуткое дело, как на небе чуть-чуть облачка появляются, у человека голова – просто раскалывается на части, да так, что он на кровати валяется рожей в матрас, башку подушкой накрывает и зубами скрипит. Их бы домой уже отпустить, нет, отправили дослуживать к нам в Забайкальский военный округ. И всем наплевать на них. Так, для вида поспрашивали о том, о сем поверхностно, политинформацию им посвятили – и все. Как там ребята воевали, чего они чувствовали, когда на этих своих фугасах подрывались? Мне, например, очень все это было интересно, но неловко как-то одному выспрашивать, в душу им лезть. А им здесь вообще все дико, они там совсем по-другому служили! Ходили в кроссовках, с офицерами – запросто. А у нас – штаб, люди есть разные. Некоторые на формальности внимания не обращают, а другие: «Товарищ солдат, вы не отдали честь, да не так прошли мимо офицера…» Ребят, это, конечно, сильно бесило первое время. Я в учебке тоже писал заявление с просьбой меня в этот Афганистан направить служить – выполнять Интернациональный долг. Все писали, под диктовку замполита. И не заставляли нас вроде, так просто неудобно было отрываться от коллектива. Слава богу, я оказался Родине нужнее здесь, в Борзе. А то поехал бы как миленький. Вернулся бы? Это вопрос без ответа.
Скоро меняться, часов шесть здесь кукую, пока там молодежь лагерь обустраивает. Надеюсь, мне уже подготовлено комфортное место для заслуженного ночного отдыха, ну, и ужин, конечно. Надо не забыть сказать, чтобы ящик мой не потеряли, а то на ногах караул выстаивать – можно в землю врасти по пояс. А мне же скоро домой – себя нужно беречь и готовить к нереальной и загадочной, почти ненастоящей гражданской жизни. Есть ли она на самом деле?