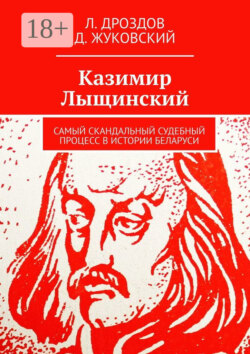Читать книгу Казимир Лыщинский. Самый скандальный судебный процесс в истории Беларуси - Л. Дроздов - Страница 5
Глава 1. Родословная
ОглавлениеЭта глава не только дань традиции. Чтобы лучше понимать человека, важно знать, где находятся его исторические корни, на какой земле он вырос. Мы расскажем о прародителях нашего героя, о тех, кто непосредственно принимал участие в его воспитании и мог повлиять на него косвенно. Чувство принадлежности к роду, тем более к шляхетскому, очень много значило в те времена.
Лыщицы. Невдалеке от нынешней юго-западной границы Беларуси с Польшей и примерно в паре десятков километров к северо-западу от центра Бреста стоит небольшая деревенька Лыщицы. Сегодня это несколько десятков жилых домов, магазин да кладбище. Лыщицы входят в состав крупного сельхозпредприятия «Остромечево». Впрочем, кое-что напоминает о былом значении этого селения: одна из улиц вымощена бутовым камнем. Это, конечно, не тысячелетняя римская дорога, но все же показатель, что Лыщицы знавали и лучшие времена. Статистика утверждает, что в 2018 году в Лыщицах числилось чуть меньше 80 человек. Однако прежде народу там жило много. В 1878 году, например, раз в шесть больше.
Фамилию нашего героя всегда напрямую связывали с этой деревенькой. Лыщицы – родовое имение его семьи, впрочем далеко не единственное. На протяжении нескольких веков Лыщицы упоминались в различных документах, которые хранятся в архивах Беларуси, Литвы, Польши и Украины. Долгое время они были главными в этом регионе. В 1913 году волость в Брест-Литовском повете, где располагались основные земельные владения Лыщинских, официально называлась Лыщинской.
История Лыщиц по документам прослеживается с начала XVI века, но, очевидно, что она началась как минимум веком ранее.
Лыщинские. Род Лыщинских был весьма многочисленным. Так, в 1522 году владельцами Лыщиц числятся Васко и Ивашко Лыщинские, видимо, родные братья. Однако мы не знаем, состояли они в прямом родстве с Казимиром Лыщинским.
Нам интересен другой персонаж, в гораздо большей степени вероятности предок нашего героя. В 1528 году некто Михно Дробышевич Лыщинский отписал свое имение в Лыщицах и Кустыне пану Александру Ивановичу Ходкевичу, берестейскому старосте и маршалку1. «Земянин берестейский Михно Дробышевич Лыщинский дался ему в опеку и записался ему по своем животе и теж по животе жены своее Олюхны»2. Подобными формулировками, как правило, оформлялись отношения между патроном и его клиентами3. Ходкевич выставлял в войско ВКЛ 201 вооруженного всадника, а Лыщинский – только двух4. Разница в 100 раз наглядно показывает кто в этой связке патрон, а кто клиент.
Упоминает Перепись войска ВКЛ и еще одного Лыщинского – Проньку, который и вовсе выставлял всего одного всадника5. У Проньки Лыщинского был свой собственный сын – Богдан Пронкевич. Он отметился судебным спором с брестским евреем Гошкой Кожчичем в январе 1542 года. Лыщинский задолжал Кожчичу 10 коп литовских грошей, долг длительное время не возвращал. Не надеясь найти на него управу в ВКЛ, Кожчич арестовал и упрятал должника в тюрьму с помощью властей королевства польского. Это было грубейшим нарушением законов ВКЛ. В порядке компенсации за бесчестье Лыщинскому присудили 20 рублев, то есть 33 копы грошей6. Столько же взыскали в казну. В итоге брестский еврей и долг не вернул, и потерял в 6 раз больше. Богдан Пронкевич Лыщинский вероятнее всего, сын Проньки Лыщинского, но на 100% мы не уверены.
Однако вернемся к наследникам Михно Дробышевича Лыщинского. У него была большая семья, три дочери и сын: земянин Брестского повета Стецко Лыщинский7. Он владел землями на Берестейщине на основании договора мены от 19.10.1554 года.
У Стецко был собственный сын – не кто иной, как Иев (Лев) Лыщинский. В Переписи войска ВКЛ 1567 года черным по белому написано: «Мѣсяца сентебра 17 дня. Стецка Лыщынского сынъ Иевъ з ымѣнья Лыщичъ а з Добронижа кони 2 зброй., пнцр. 1, зброя, пр., рог., кор. 4». Это означает буквально следующее: «17.09.1567 года Иев, сын Стецко Лыщинского из имения Лыщичы и Доброниж, явился в войско в количестве 2 всадников»8. Это не может быть простым совпадением. В этой записи идентичны не только имя, фамилия, но и повет, и родовые имения. Отсюда вывод, Стецко прапрадед Казимира Лыщинского.
Ранее первым из предков Казимира Лыщинского называли Льва (Иева) Лыщинского герба «Корчак» (~1506 – ~1577)9. Годы его жизни указаны примерно («согласно семейной традиции»10). Он владел Лыщицами как вотчиной («отчиной, отчизной»). То есть это имение досталось ему от отца по праву наследования, а не было получено им на службе у великого князя литовского.
Лев Лыщинский был женат на Барбаре Мысловской герба «Налеч», которая принесла ему в приданое имение Доброниж, расположенное невдалеке от Лыщиц. В работах белорусских историков и философов написание фамилии жены Льва несколько отличается от польского варианта – Варвара Мыславская11. На наш взгляд предпочтительна версия, подтверждаемая документально, – «Барбара з Мыслова».
Доброниж на многие годы стал вторым родовым имением Лыщинских. При любом раскладе они всегда старались сохранить эти земли за собой: в те времена земля была главным богатством.
У Льва Лыщинского и Барбары Мысловской родились три сына: Константин, Станислав и Ян (Иван). Лев Лыщинский прожил более 70 лет, а его жена пережила мужа. Вероятно, она была значительно моложе. В истории он отметился двумя судебными тяжбами. С первым иском обратился в Брестский городской суд 17.08.1569 года, буквально спустя месяц после утверждения Люблинской унии королем польским и великим князем литовским Сигизмундом II Августом. Иск касался расхищения скирды хлеба12. Второй иск был подан в суд 09.05.1577 года против пана Крупицкого13. Этот шляхтич действовал как заправский разбойник с большой дороги. По пути из Лыщиц в Доброниж Крупицкий отнял у слуги Льва Лыщинского двух волов (гнедого и черного) и коня. Мы не знаем, чем закончились оба эти дела, но хочется верить, что справедливость восторжествовала.
Незадолго до смерти Лев Лыщинский разделил Лыщицы поровну между тремя сыновьями. Жена недолго вдовствовала и в скором времени вышла замуж за местного шляхтича Василия Горновского, родила ему двух сыновей (Петра и Андрея) и дочерей.
Барбара была женщиной бережливой и в детях своих от первого брака души не чаяла. А потому в январе 1597 года выкупила у пана Петра Добронижского имение Доброниж за 110 коп литовских грошей и тоже разделила перед смертью между сыновьями от первого брака14. Лев и Барбара – прадед и прабабка Казимира Лыщинского.
Дедом нашего героя был их сын Константин. Он родился примерно в 1550 году. Константин женился на Анне Суходольской, они произвели на свет двух сыновей: Геранима (старший, это отец Казимира Лыщинского) и Луку (младший).
В архиве Брестского городского суда сохранился подписанный Константином Лыщинским документ о разделе имения между сыновьями. Он датирован 22.10.1639 и являет собой пример истинной отцовской любви и заботы: «Я, Константин Лыщинский, желая, чтобы братняя обоюдная любовь между сыновьями моими Иеронимом и Лукой была нерушима, постоянно в смирении соблюдаема, в предупреждение распрям и междуусобиям, которые нередко происходят и могут в отношении мыз (отдельно стоящие усадьбы. – Прим. авт.) встретиться, постановляю…»15
В 1639 году Константину Лыщинскому было примерно 89 лет. Для той поры возраст уникальный. Впрочем, в семье Лыщинских это не было редкостью. Ум, поздние браки, богатырское здоровье и невероятное долголетие – характерные черты мужчин этого рода. В момент подписания дележного документа его внуку Казимиру уже шел шестой год от роду. А значит, дед вполне мог принимать посильное участие в воспитании мальчика.
Но здоровье здоровьем, а песка в песочных часах становилось все меньше. Вот и позаботился он о сыновьях – составил дележный документ. Сам же остался жить у младшего, Луки, которому перешла усадьба в Лыщицах. Поскольку она была побогаче, старший, Гераним, помимо новой собственной усадьбы, тоже в Лыщицах, в порядке компенсации получил дом в Доброниже, который стоял у самого пруда. Для равновесия отец Казимира должен был отдать Луке свою старую усадьбу в Лыщицах. В общем, каждому из сыновей Константина Лыщинского досталось по два дома с хозяйственными постройками, землями и прочим. Отец едва ли не с математической точностью разделил имущество поровну.
Константина Лыщинского похоронили в родовом поместье в Лыщицах вместе с женой, вероятнее всего, на территории местной церкви. В пользу церкви, а не костела говорят документы, в частности завещание младшего сына Луки, в котором указано: «Прошу сыновей моих похоронить меня по христианскому обряду в нашей церкви в Лыщицах, где почивают тела предшественников и родителей наших»16. Обращает на себя внимание и тот факт, что Лука Лыщинский называет церковь нашей. Возможно, построили ее как раз Лыщинские.
Про отца и мать Казимира Лыщинского мы расскажем подробнее в следующих главах, а сейчас немного о вопросах веры.
Вероисповедание. Отец Казимира Лыщинского, Гераним, – несомненный католик по вероисповеданию. Целую страницу в своем завещании он отвел перечислению пожертвований монастырям, костелам, церквям в Бресте и его окрестностях. При этом обычное пожертвование на костел составляло не менее 15 злотых, на церкви – по 10 злотых, а на Лыщинскую церковь – 20 злотых17. Сверх денежного взноса Гераним Лыщинский жертвует Лыщинской церкви «черные камлетовые ризы». За этим загадочным подарком скрывается верхнее облачение священника, сшитое из черного сукна и надеваемое во время богослужения.
По всему видно, что отец Казимира Лыщинского тоже питал особую привязанность к этой церкви. Полагаем, потому, что там покоились его родители.
Говорит о церкви в Лыщицах в своем завещании и старший брат Казимира Лыщинского Матвей: «Тело мое грешное… должно быть похоронено в церкви Лыщинской»18.
Эта церковь неоднократно упоминается в архивных документах. Например, зафиксированы вот такие истории. 13.09.1726 года с иском в Брестский городской суд обратился митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси Лев Кишка по факту убийства лыщицкого священника Фомы Крымского. Претензии в суде были заявлены предстоятелем униатской церкви19. 15.06.1795 года в Брестский земский суд был представлен документ от местной помещицы Марианны Лыщинской, которым подтверждалось право на приход Лыщицкой церкви, данное ею священнику Хацкевичу20.
Исходя из этих, пусть и косвенных фактов, можно с большой долей вероятности утверждать, что первые Лыщинские были православными (на это указывают и их одинарные имена: Лев, Петр, Ян (Иван), Лука, Константин, у католиков были приняты двойные), а после 1596 года они перешли в униатство.
Версия о том, что Лыщинские изначально принадлежали православию, бытует и в сочинениях белорусских историков21. Польские и литовские ученые эту тему особо не затрагивают, им она крайне невыгодна. Православие Лыщинских получает определенное подкрепление и в знаменитом исследовании Николая Николаева о рукописных книгах на территории Беларуси. В частности, Супральский синодик 1631 года называет умерших Лыщинских среди родов христианских, подлежащих поминанию по церковному православному обряду22. К этому можно дабавить, что отец Казимира Лыщинского жертвует Супральской церкви весьма приличную сумму по тем временам – 50 злотых «на блошки», в ценах Статута ВКЛ 1588 года это небольшой табун лошадей23.
Герб. Нельзя не сказать несколько слов о гербе, которым многие столетия пользовались Лыщинские. Это герб «Корчак». В Польше он известен с 1142 года, в 1413 году упоминается в документе Городельской унии ВКЛ и Королевства Польского.
По мнению Яна Длугоша (1415 – 1480), герб был создан королем Людовиком24. Помимо Лыщинских, гербом «Корчак» пользовались более 270 шляхетских родов Беларуси, Украины, Литвы и Польши. Частновладельческий герб Лыщинских включает шлем и щит. Шлем венчает княжеская корона, поверх нее – золотая чаша, из которой влево смотрит собака с согнутыми передними лапами. На щите изображены три серебряные реки примерно одинаковой длины. Вверху щита – крупный крест, внизу – охотничий рог. Последние две детали характерны только для герба Лыщинских. Щит справа и слева поддерживают два льва, стоящие на задних лапах25.
Выводы. Лыщинские не позднее середины XV – начала XVI века облюбовали Брестское воеводство. ВКЛ – это их родина, они обстоятельно обосновались здесь, занимали государственные должности, защищали свою страну с оружием в руках, представляли ее интересы на сеймах. Изначально Лыщинские исповедовали православие, затем – католичество, что типично для белорусской шляхты. Лыщицы и Доброниж стали их родовыми усадьбами. Именно здесь появился на свет Казимир Лыщинский – брестский шляхтич как минимум в 4-м поколении. Про это было известно уже 100 лет тому назад. Он 100-процентный литвин, в нынешнем понимании – белорус. Считать Казимира Лыщинского поляком, а равно и этничным литовцем, нет никаких оснований. Опять же об этом еще 100 лет назад однозначно заявили белорусские ученые26 и неоднократно подтверждали свою точку зрения27.
На сегодняшний день нам известны не только четвертое, но и пятое, а возможно и шестое поколение Лыщинских, которые стабильно проживали на террритории Брестского повета ВКЛ.
Родословная Казимира Лыщинского выглядит так:
1 поколение – Михно Дробышевич Лыщинский, (родоначальник), жена Олюхна, в 1528 г. Михно подарил свои земли А. Ходкевичу;
2 поколение – Стецко Лыщинский, сын Михно (?), владел землями в Берестейском повете в 1554 году на основании договора мены;
3 поколение – Иев (Евъ, Лев, Леон) Лыщинский (1506 (1509) —1577), сын Стецко, жена Барбара Мысловская, участвовал в войсковых сборах в 1567 г.;
4 поколение – Константин Лыщинский (род. ок. 1550), сын Иева (Ева, Льва, Леона), составил дележный документ 1639 г., жена Анна Суходольская;
5 поколение – Гераним Казимир Лыщинский (1581—1670), сын Константина, жена Софья Бабинская (Балынская);
6 поколение – Казимир Лыщинский (1634—1689), сын Геранима, жена Ядвига Желиховская.
Предков до 1506 года идентифицировать по документам пока не удалось.
***
Значительный вклад в изучение родословной и мифологизацию фамилии Лыщинских в свое время внес князь Лев Лыщинский-Троекуров, поэтому вкратце расскажем здесь о нем. Тем более, что многие сведения о Лыщинских мы активно черпали из его книги, которую он опубликовал в 1907 году в возрасте 18 лет. Она называлась «Род дворян Лыщинских. Материалы для составления 157 родословий». Он также написал поэму «На плаху» (1910), в которой создал поэтический образ Казимира Лыщинского.
В исследовании 1907 года Лев Лыщинский прославлял и свой род, и себя самого. Он публично демонстрировал, что является прямым потомком (в 12-м колене) Никиты Романовича Захарьина-Юрьева – основоположника царского рода Романовых. Правда, потомком он был «по кудели», а не «по мечу». Его род по древности не уступал Романовым. На это прямо указывает родословная таблица, содержащаяся в книге28. В ней автор графически размещен на одном уровне с наследником российского трона Алексеем Романовым, сыном императора Николая II.
У белорусской шляхты в крови было желание возвысить свой род, да так, чтобы у соседей дух захватывало. Подобной слабостью страдали и представители знаменитых магнатских фамилий, и те, кто оставался в тени. Сапеги, например, выводили свой род от великого князя Витеня, хотя никакого отношения к нему не имели, Винцент Дунин-Марцинкевич – от датчанина Петра Дунина, который якобы прибыл в Польшу в 1124 году и за свою жизнь построил там 30 монастырей и 77 костелов.
Не был оригинален в этом смысле и князь Лев Лыщинский-Троекуров. В своих исторических поисках он дошел до Льва (Иева) Лыщинского. Это был первый известный ему по документам Лыщинский, не только прямой предок Казимира Лыщинского, но и полный тезка автора исследования о Лыщинских. Возможно, именно этот факт стал отправной точкой в написании генеалогического исследования. У Льва Лыщинского-Троекурова прослеживается явное желание продемонстрировать традиции, характерные для рода Лыщинских, в том числе на примере повторения имен. И в этом случае он несколько перегнул, поскольку в источниках имя далекого предка Казимира Лыщинского представлено не иначе как Иев29.
Свой род Лев Лыщинский-Троекуров по линии Лыщинских выводил от одного из полководцев Атиллы – гунна Зоарда, который выиграл три битвы на территории современной Венгрии у рек Дунай, Савва и Тисса (по другим сведениям вместо Тиссы – Драва)30.
Несмотря на неправдоподобное описание глубокой древности, это исследование ценно тем, что в нем собрана и проанализирована информация по истории рода с начала ХVI века до начала ХХ. При этом отдельные материалы архивного дела Лыщинских, хранящегося в НИАБ, у некоторых современных белорусских исследователей вызывают сомнения в подлинности. Однако они признаны особо ценными и выдаются на руки ограниченному кругу лиц.
Отец Льва Лыщинского-Троекурова Влади́мир Анзе́льмович (Бори́сович) Лыщи́нский не только достиг высоких должностей в Российской империи, но и сумел доказать свое княжеское происхождение, тем самым обеспечил себе и своим потомкам титул31. В первой половине ХIХ века Лыщинские проделали титаническую работу, собирая документы, относящиеся к своей родословной. Ибо российские власти после разделов Речи Посполитой и захвата ВКЛ требовали документально подтвердить принадлежность к дворянскому сословию.
Белорусы делали для этого все, что могли: обивали пороги судов и архивов (благо архивы в ВКЛ велись) и даже фабриковали недостающие документы. Но Лыщинским прибегать к фальсификации не было необходимости: они шляхтичи с вековыми корнями. А вот времени пришлось потратить немало.
Как утверждает Лев Лыщинский-Троекуров, основоположник рода был внуком или правнуком Юрия Дмитриевича, владевшего имением Мальчицы. Тот, в свою очередь, приходился сыном Дмитрию Дмитриевичу, канцлеру земель русских, и внуком Дмитрию Божидару. Юрия Дмитриевича предлагается считать родоначальником всех Лыщинских – выходцев из ВКЛ, а его братьев – основателями польской ветви. Приводятся сведения и о некоем Чупе Корчаке, в качестве представителя ВКЛ подписавшем акт Городельской унии с Польшей в 1413 году32.
Однако вышеприведенные сведения скорее относятся к разряду легенды, поэтому мы не станем дальше их пересказывать. Желающие могут самостоятельно прочитать книгу Льва Лыщинского-Троекурова33, которая ныне доступна в интернете.
1
Мянжынскі. С. 92.
2
Тамсама.
3
Тамсама.
4
Пepaпic войска ВКЛ 1528 года. С. 100.
5
Тамсама.
6
Литовская метрика (1541—1542). 27-я книга записей. Вильнюс: Изд-во Вильн. ун-та. 2016. С. 147.
7
Мянжынскі. С. 127.
8
Литовская Метрика.
9
Nowicki. S. 6 (указаны две даты рождения Л. Лыщинского – 1506 и 1509 годы, вероятно, ошибка при наборе текста).
10
Лыщинский. С. 14.
11
Прокошина Е., Шалькевич В. С. 22.
12
Иск от 17.08.1569.
13
Иск от 09.05.1577.
14
Дарственная Б. Мысловской от 29.01.1597 г. // НИАБ. Ф. 319, оп. 2, д. 1884, л. 66—67b; Прокошина Е., Шалькевич В. С. 22.
15
Лыщинский. С. 150.
16
Духовная Луки Лыщинского // Лыщинский. С. 152.
17
Духовное завещание.
18
Завещание Матвея.
19
АВАК. Т. III. С. 152.
20
АВАК. Т. II. С. 118.
21
Прокошина Е., Шалькевич В. С. 21.
22
Нікалаеў М. Палата кнігапісная. Рукапісная кніга на Беларусі ў Х – ХVIII стагоддзях. Мінск: Мастац. літ., 1993, С. 75—76.
23
Духовное завещание.
24
Лыщинский. С. 1, 10.
25
Там же.
26
Дружчыц. С. 156.
27
Алексютовіч. С. 142; Майхровіч С. Выдатны беларускі філосаф // Беларусь. 1968. №11.
28
Лыщинский. С. 157.
29
Иск от 09.05.1577 г., Иск от 17.08.1569 г.
30
Лыщинский, С. 10—11. См. также: Лашкевіч А. Нашчадак гуна Зоарда? // Беларуская мінуўшчына.1994. №4. С. 45.
31
Влади́мир Анзе́льмович (Бори́сович) Лыщи́нский // Википедия //https://ru.wikipedia.org/wiki/ режим доступа 21.11.2022.
32
Лыщинский. С. 150.
33
Там же. С. 9.