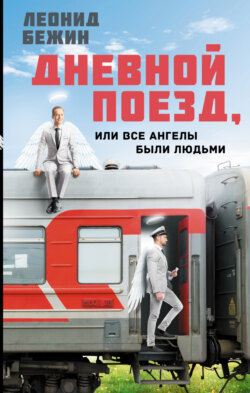Читать книгу Дневной поезд, или Все ангелы были людьми - Леонид Бежин - Страница 25
Дневной поезд
(роман)
Часть первая
Глава третья
Лишенец
ОглавлениеГерман Прохорович называл себя лишенцем. Он так и говорил, рекомендуя себя кому-то, протягивая руку и обозначая намерение отнять ее назад, если рекомендация не придется по вкусу: «Я ведь, знаете ли, лишенец, а это болезнь заразная». В этом угадывался двойной смысл, некий прозрачный (дразнящий) намек. Но угадывался не при первом знакомстве, не всеми, а лишь испытанными, близкими друзьями (с кем пуд соли, как говорится). Или хотя бы приближенными ко двору, как он называл тех соседей и знакомых, чьи окна выходили в тот же засаженный персидской сиренью, обнесенный полуповаленной решеткой с лопухами, проросшими между ржавыми прутьями, двор на Покровке.
И кому даже не надо при необходимости звонить по телефону, а можно использовать еще более надежный вид связи – переговоры через открытые форточки: «Марья Арнольдовна, у вас уже затопили?» – «Какое там, Герман Прохорович! Батареи чуть тепленькие. А ваш насморк уже прошел?» – «Ах, не говорите мне про насморк! Для меня это больная тема». – «Ах, простите, простите! Я совсем забыла».
Больная тема – это, понятное дело, жена, которую лечили от насморка, а умерла она от воспаления легких. Умерла, лишив его придирчивой, мнительной заботы, взыскательного беспокойства о его здоровье, суеверной боязни грозящих ему неприятностей – словом, всего того, что обременяет счастливых в браке и тоскующих о холостяцком прошлом мужей.
Но, повторяю, об этом догадывались лишь самые надежные – форточные – знакомые.
Именно такие знакомые со стороны Морошкина облечены известным доверием и удостоены великой чести быть сведущими в кое-каких подробностях его простой советской биографии. Они-то знали, что называл он себя лишенцем не потому, что был лишен избирательного и прочих гражданских прав за принадлежность к эксплуататорскому классу, – разумеется, нет, все права у него были. Избирательный участок в здании школы он неукоснительно посещал и свой бюллетень он в урну исправно опускал.
И воровато крестил его напоследок.
Правда, при этом сетовал, что в буфете не нальют коньяка с ломтиком лимона, насаженным на рюмку. И вообще как-то скучно, знаете ли, – скучно жить на свете, господа. А может, «и скучно, и грустно, и некому руку пожать», – декламировал он про себя, и это неопровержимо свидетельствовало, что свою рюмку (правда, без ломтика лимона) он выпил еще дома, а с ней и вторую, и третью, и даже четвертую.
Однако это мелочи, по его мнению ничуть не компрометирующие избирательную систему. Система вообще неуязвима для компромата, иначе она была бы не системой, а лесной поляной, алой от морошки.
Но при этом на самого Германа Прохоровича компромат был. Оный Герман Прохорович имел деда-фабриканта, тощего, с запавшими щеками, выпирающим кадыком, глазами навыкате и козлиной бородкой, искрящейся сединой (эту бородку и седины унаследовал внук), нещадно эксплуатировавшего рабочих. Хотя те, как ни странно, звали его благодетелем. И готовы были за него Богу молиться, поскольку тот не только каждые пять лет увеличивал раза в полтора им оклад, но и к концу каждого года выдавал каждому… туесок морошки, а на дне плетеного туеска – солидные премиальные, банковские купюры, перевязанные алой, под цвет морошки ленточкой.
Премиальные, слегка испачканные ягодным соком, но от этого не менее сладкие и духовитые.
Оклады и премиальные могли свидетельствовать об особом попечении, оказываемом рабочему классу со стороны Трифона Морошкина. Но его ошибка была в том, что он не поддерживал революционных настроений и агитаторов с фабрики изгонял взашей, хорошим пинком под зад (справлялся сам, без помощи полиции).
Потому и не мог похвастаться всяческими простоями, стачками и забастовками, бахвалиться же хорошей работой совесть не позволяла. Да и не нужна была хорошая работа новым властям, а нужна присяга на верность, послушание и исполнительность. Потомственный же заводчик и фабрикант Трифон Морошкин на такие присяги был скуповат и зажимист.
Вот фабрику у деда и отняли, дом обыскали, вспороли штыками подушки и перины (кладоискатели!) – так что по всем комнатам пух и перья летали, а самого его сослали в Соловки на перевоспитание. Там он под влиянием каторжного труда, атеистической пропаганды и дружбы с верующим бурятом Баатаром (тот, хоть и по имени Богатырь, был худенький, морщинистый, подслеповатый, узкими глазками все помаргивал) принял буддизм. А когда его расстреливали по очередному, утвержденному свыше списку, возглашал козлиным тенорком Четыре благородные истины.
Предание об этом сохранилось в семье Морошкиных, и Герман Прохорович его, конечно же, знал, почему всю жизнь испытывал интерес если не к фабричному делу, то к буддизму, особенно его бурятской ветви, называемой Гелугпа.
Разумеется, гражданскими правами при советской власти дед так и не попользовался, не насладился: их ему заменили те самые Четыре благородных истины, и особенно первая из них, утверждавшая, что жизнь – это сплошные страдания, в том числе и на дощатых (нестроганые, занозистые доски) нарах главного соловецкого Спасо-Преображенского собора. Страдания эти – в полном согласии с Благородной истиной – дед сполна испытал на себе.
Вторая же Истина – Истина причины страданий, коей, как известно, являются желания, далась деду не так легко, поскольку желание у него осталось только одно: чтобы кто-нибудь подарил ему перед смертью туесок морошки. Но таких благодетелей не нашлось, а слать ему морошку из дома – дело безнадежное: все равно увянет, раздрызнет и прокиснет.
Поэтому дед и ушел в нирвану, так и не попробовав своей морошки и передав зиявшие своим полным отсутствием гражданские права внуку Герману. Поэтому Герман Прохорович мог хотя бы отчасти считать себя лишенцем в этом – прямом – смысле слова, на что он, собственно, и намекал.
Но он считал себя лишенцем еще и потому, что жизнь вообще его не жаловала и всего лишала.