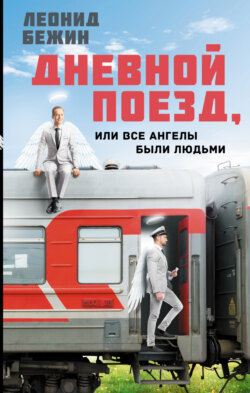Читать книгу Дневной поезд, или Все ангелы были людьми - Леонид Бежин - Страница 27
Дневной поезд
(роман)
Часть первая
Глава третья
Пробуждение интуиции
ОглавлениеВсе, чего лишила Морошкина жизнь, отнявшая у него обоих дедов, мать, отца и жену, она же потом и вернула (воздала) ему в сыне.
Это было заложено даже в их именах. «Знаешь, назовем-ка мы сына Прохором – в честь твоего отца. Ему там, на небесах, будет приятно. Ведь при жизни, согласись, его не баловали всякими почестями, да и конец твоего отца был ужасен. Пусть хотя бы после смерти утешится», – предложила жена, когда они, мыча, словно от зубной боли, перебирали разные имена и ни на одном не могли остановиться.
Герман Прохорович сразу же согласился: «А что? Давай. Я, конечно, не против, а обеими руками за». Он был благодарен жене за такую находку, даже умилен и растроган: отпала необходимость перебирать, выискивать, и зубная боль (да и головная тоже) мигом улетучилась.
Прохор так Прохор. Поначалу ему просто показалось забавным (игра имен – та же игра слов), что он, Герман Прохорович, – отец, а Прохор Германович – сын.
Но затем он стал усматривать в этом глубокий, затаенный, мерцающий, словно вода подо льдом, смысл. Получалось, что сын поменял местами его имя и отчество и таким образом обратил лишения отца в свои собственные обретения.
Прохор был единственным и, главное, поздним ребенком. Он родился в пятидесятом, когда отцу уже минуло тридцать два года. Поэтому с ним носились, нянчились, его оберегали от сквозняков, кутали, заласкивали, окружали неусыпным и чутким вниманием. По ночам, если он даже не плакал, а лишь посапывал в подушку, родители все равно просыпались, чтобы проверить, не плачет ли он, не раскрылся ли, не сбросил с себя одеяльце, а то, не дай бог, замерзнет и простудится.
Может быть, даже это было слишком, не в меру. Во всяком случае, подобные опасения высказывались знакомыми и приближенными ко двору: «А вы не боитесь, что Прохор вырастет у вас капризным и избалованным?» Но мать отвечала на это туманной и не слишком вразумительной фразой: «Мы стараемся психологически компенсировать то, что в силу нашего возраста и отсутствия соответствующих генетических ресурсов недодали ему физически».
Эта фраза оставляла у приближенных оттенок досадливого недоумения. Слишком уж она была замысловата. Слишком отдавала (шибала в нос, словно забродившее варенье) психологией. Но вокруг этой психологии в семье Морошкиных все и вертелось, и за ней обращались, конечно же, к Федору Михайловичу, чьи пять (главных) романов Герман Прохорович и его жена без конца перечитывали, делали подробные выписки и вытряхивали из них мельчайшие крупицы смысла, как вытряхивают присохшие к стенкам йодистого пузырька крупинки лекарства.
Это привело к тому, что и Прохору Достоевский заменил детские книжки, а уж подростком он зачитал до дыр «Подростка» и воспламенился ротшильдовской идеей, впрочем ненадолго, поскольку к идее этой быстро охладел. Деньги он разлюбил, фарфоровую кошку с прорезью на спине вдребезги разбил молотком (монеты закатились под диван, откуда их пришлось выгребать веником), накопительство и богатство перестало его интересовать.
Перестало после того, как он узнал, что его прадед, по приговору новой власти потерявший все и обращенный в лагерную пыль, оказывается, на соловецких нарах принял буддизм. Это смутило и озадачило юного Прохора. Захотелось узнать, что это за буддизм и как он будит – пробуждает – спящих (о том, что буддизм именно будит, сын догадался сам, без подсказок).
За более подробными сведениями Прохор обратился к отцу, но тот был занят тем, что, сидя за столом, что-то писал, нервничал, комкал бумагу и бросал в корзину. Поэтому Герман Прохорович не распознал в вопросе сына того пытливого интереса, который, не найдя удовлетворения вовне, проникает вовнутрь и старается возместить недополученные от других знания собственной интуицией.
Интуиция от этого получает толчок к развитию и чудовищно разрастается, словно жадно пульсирующую губку, напитывая сознание животворным потоком крови. Хотя, прежде чем это произошло (а такое происходит не сразу), Прохор еще пытался расспрашивать о буддизме учителей, но грузная математичка в черном платье и мужских ботинках от него негодующе шарахнулась, словно он перепутал числитель со знаменателем, отчего все вокруг перевернулось с ног на голову. Географичка посмотрела на него с умиленным участием, как на любознательного дурачка, и сказала: «Когда-нибудь, я надеюсь, ты объяснишь мне, что это такое, этот самый твой буддизм. Я буду тебе за это очень признательна, поскольку я сама за это денег не получаю».
А физик, обожавший бутафорию и клоунаду, с комичным глубокомыслием отдалил от носа пенсне, трубно высморкался, снова оседлал им нос и отмочил свою излюбленную шутку: «Я отвечу на твой вопрос, мой милый, если ты мне поведаешь, как все же звали жену Бойля-Мариотта. Ха-ха-ха!»
Прохор поначалу посчитал этот смех оскорбительным, готов был отвернуться и обидеться. Но затем обида отпала, поскольку он вдруг почувствовал, что сам изначально знает то, о чем спрашивает. Это и было пробуждением интуиции. Интуиции, которая отныне вечно бодрствовала и никогда не засыпала.
С этой поры привычное чуткое внимание родителей ко всему, что в нем происходило, наталкивалось на невидимую стену. Прохор от них не то чтобы закрылся, но придал своей откровенности формы, кои они принимали за что угодно, но только не за откровенность, поскольку откровенность не может быть такой непонятной и нести в себе столько загадочных парадоксов. «Почему ты перестал смотреть на себя в зеркало?» – спрашивали они. Он откровенно пытался им что-нибудь объяснить, но они выслушивали сына с настороженным и мнительным подозрением, что за его словами скрывается насмешка (или даже издевка), что Прохор им не доверяет, считает их ниже себя и желает поскорее от них отделаться.
Поэтому и они не то чтобы закрылись, а позволили себе некое предубеждение в отношениях с ним. Вместо того чтобы, как обычно, принять его в свои объятья, мать и отец соблюдали сдержанность, некую разумную дистанцию и границу. Они торжественно обещали себе жить собственной внутренней жизнью, своими разнообразными пристрастиями, налагая этим на него известное наказание.
Когда он появлялся в их комнате, они брали с полки зачитанного ими до дыр Достоевского, словно Достоевский был им гораздо интереснее, чем собственный сын. И при этом украдкой – умоляюще – смотрели на Прохора, словно прося у него прощения за то, что его же наказывали.
Прохор о таком наказании (да еще с мольбами!) мог только мечтать, поскольку оно и ему предоставляло законное право тоже предаться внутренней жизни, а ему она – внутренняя – давалась куда легче, чем им.
Герман Прохорович с женой к этой внутренней никак не могли до конца приспособиться, переворачивая ее и так и этак, словно нагретую подушку, и все равно казалось неудобно, где-то покалывало, где-то выпирало, где-то, наоборот, проваливалось. Он же со своей подушкой как лег, так и до утра не вставал: спал как убитый. Такова была его недоступная им внутренняя жизнь. Им же доставались лишь внешние признаки, кои они могли по-своему истолковывать, спорить, гадать, ошибаться и сетовать, что в какой-то момент (ах, как они любили ссылаться на этот неведомый, недоступный их разумению момент!) утратили некий контакт – точку соприкосновения – с сыном.
«Это я во всем виноват», – каялся Герман Прохорович и в сотый раз рассказывал, как он, сидя за столом, что-то писал и поэтому не уделил нужного – необходимого как воздух! – внимания сыну. Жена его успокаивала: «Если бы не этот момент, то какой-нибудь другой. Все равно контакт был бы утрачен». Они так и остались со своими моментами и контактами, словно провожающие на платформе станции, под часами, – с раскрытыми над головой зонтами, а поезд Прохора – дневной поезд! – устремился вперед.