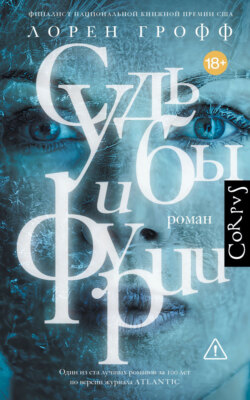Читать книгу Судьбы и фурии - Лорен Грофф - Страница 4
Судьбы
2
ОглавлениеОни карабкались по камням к дому, который в сумерках сверкал огнями; уходя, она оставили свет включенным.
Единство, супружество, состоит из частей. Лотто был шумным, полным огня; Матильда – тихой и настороженной. Легко поверить, что он представлял собой лучшую половину, ту, которая задавала тон. Меж тем все, чем он жил до сих пор, подводило его к Матильде. Не подготовь его жизнь к тому моменту, когда она появилась, союз бы не состоялся.
Морось сгустилась и стала дробью. Они торопились преодолеть последний участок пляжа.
[Оставим их там мысленно, тощих, юных, поспешающих сквозь тьму к теплу, летящих над холодным песком и камнем. Мы вернемся к ним позже. Пока что мы не можем отвести взгляд от него. Из них двоих он сияет.]
Лотто очень нравилась эта история. Он родился, как любил говорить, посреди «глаза бури», в тихой сердцевине урагана.
[Сразу спросим, не странный ли способ выбирать время.]
Мать была красива тогда, и отец жив. Лето, конец шестидесятых. Городок Хэмлин во Флориде. Усадебный дом так нов, что на мебели еще бирки. Незакрепленные жалюзи при первом порыве ветра страшно задребезжали.
Но тут на короткий срок вышло солнце. Апельсиновые деревья роняли капли дождя. В наступившей передышке было слышно, как грохочет установка по бутилированию воды, отделенная от дома пятью акрами наследной земли, поросшей кустарником. В коридоре две горничные, повар, садовник и управляющий приникли ушами к двери. А в комнате плыла в белых простынях Антуанетта, и огромный Гавейн поддерживал пылающую голову жены. Салли, тетка Лотто, нагнулась подхватить новорожденного.
Лотто вышел на сцену: дитя-гоблин с длинными ручками-ножками, огромными кистями-ступнями, необыкновенно горластый. Гавейн поднес его к окну, где было светлей. Ветер разошелся опять; дубы, как живые, размахивали мшистыми ветками, дирижируя непогодой. Гавейн уронил слезу. Жизнь достигла предельной точки.
– Гавейн-младший, – произнес он.
Но в конце-то концов это Антуанетта проделала всю работу, и пылкая любовь, которую она питала к мужу, вполовину уже переместилась на сына.
– Нет, – сказала она. Ей вспомнилось первое свидание с Гавейном, бордовый бархат кинотеатра, замок Камелот на экране. – Нет, – сказала она, – Ланселот.
Ее мужчины будут именоваться в рыцарском духе. В чувстве стиля ей не откажешь.
До того как буря успела разойтись вновь, прибыл врач и заштопал Антуанетту. Салли смазала младенчика оливковым маслом. Ей казалось, она держит в руках собственное стучащее сердце.
– Ланселот, – прошептала она. – Вот же имечко! Достанется тебе за него, это наверняка. Ну ничего, не тревожься. Будешь ты у нас Лотто, уж я постараюсь.
И поскольку Салли умела проскальзывать за обоями, как мышка, на которую была очень похожа, все и впрямь стали звать его Лотто.
Антуанетте дитя далось дорого. Поплыло тело, обвисла грудь. Вскармливание не делает краше. Но как только Лотто заулыбался, мать увидела, что он – ее крошечная копия, хорошенький, с ямочками на щеках, и простила его. Какая отрада – обнаружить, что ребенок красив в тебя!
Семейство мужа привлекательностью похвастаться не могло, потомки всех флоридских обитателей, начиная с коренных тимукуа до испанцев, шотландцев, беглых рабов, индейцев-семинолов и пришлых северян-саквояжников; на вид сущие пережженные сухари. Салли угловата лицом и костлява. Гавейн – волосат, огромен и молчалив; по Хэмлину ходила шутка про то, что человек он только наполовину, отпрыск медведя, который подстерег его мать, когда та шла по двору к флигелю. Антуанетта, вообще-то прежде отдававшая предпочтение обходительным ходокам, гладким, напомаженным и откровенно богатым, прожив год в браке, обнаружила, что так увлечена мужем, что, когда он приходит домой ввечеру, она, как есть в одежде, вместе с ним встает под душ, словно в трансе.
Выросла Антуанетта на побережье Нью-Гэмпшира в кособоком доме-солонке, названном так по сходству с деревянной коробкой, в которой хранили соль. Пять младших сестер; зимой до того страшные сквозняки, что по утрам ей казалось, околеешь прежде, чем успеешь одеться. В ящиках комода срезанные пуговицы про запас и севшие батарейки. Печеная картошка шесть раз в неделю подряд. Как-то ехала в Смит, и проезд был оплачен до Смита, но там не смогла заставить себя сойти с поезда. Журнал, который кто-то забыл на соседнем сиденье, открылся на статейке про Флориду. Где деревья никнут от золотистых плодов, где солнце и изобилие. Где тепло. Где женщины с рыбьими хвостами, зелеными, волнистыми, в крапинку.
В общем, так оно было предопределено. Антуанетта доехала до конечной, до заповедника Уики-Вачи денег ей не хватило, добралась автостопом. Вошла в кабинет продюсера, тот окинул взглядом ее золотисто-рыжую до пояса гриву, ее округлые формы, на которые трудно было не обернуться, и бросил: «Годится».
Парадокс русалки: чтобы выглядеть ленивой и безмятежной, нужно много и усердно работать. Антуанетта улыбалась томно и ослепительно. Ламантины, проплывая, задевали ее, как свою, окуни-синежаберники покусывали за рыжие прядки. Но вода была ледяная, 74 градуса[1], течение сильное, а подача воздуха в легкие точно отрегулирована, чтобы обеспечивать то плавучесть, то погружение. Туннель, по которому русалкам требовалось проплыть, чтобы добраться до сцены, был черный и длинный, и порой они цеплялись за что-то там волосами, рискуя лишиться скальпа. Зрителей видеть она не могла, но сквозь стекло чувствовала тяжесть их взглядов. Включала внутренний жар, зажигала, заставляла поверить, что она русалка и есть. Но бывало, что улыбалась в зал, а сама думала о морских девах, какими их изнутри знала: не о наивной русалочке, которой сейчас притворялась, а о той, что отреклась от своего языка и от родимого дома – ради бессмертия. Той, что песней могла завлечь корабль на скалы и с лютой яростью наблюдать, как люди плюхаются в пучину и гибнут.
Разумеется, ходила и в номера, когда ее приглашали. Встречалась с актерами из телесериалов, комиками, бейсболистами и даже с тем вертлявым певцом, когда он успел уже выбиться в кинозвезды. Они обнадеживали, но обещаний не выполняли. Самолетов за ней не присылали. Тет-а-тетов с режиссерами не устраивали. Особняка на Беверли-Хиллз не предоставляли. Ей исполнилось тридцать. Тридцать два. Тридцать пять. Что ж, значит, славы ей не видать, поняла она, задувая свечи. Оставался только медлительный балет в холодной воде.
И тут в подводный театр заявилась Салли. Семнадцатилетняя, обожженная солнцем. Она сбежала из дому: хотелось жить! Хотелось чего-то поинтересней, чем молчаливый брат, который по восемнадцать часов в день торчал на своем заводике и являлся домой только поспать. Однако распорядитель русалочьего шоу лишь посмеялся над ней. Худющая, она тянула больше на угря, чем на наяду. Скрестив на груди руки, Салли уселась у него в кабинете на пол. Тогда, чтобы прекратить сидячую забастовку, он подрядил ее продавать хот-доги. И вот посреди представления она вошла с лотком в затемненный амфитеатр и остолбенела перед сверкающей витриной, в которой выступала Антуанетта в красном лифчике и с хвостом. В точке света. В сердцевине луча.
Пылкое внимание Салли устремилось к женщине за стеклом и осталось прикованным к ней – навеки.
Она сделалась на все руки, незаменима. Расшивала блестками парадные хвосты, в которых русалки позировали, научилась дышать через респиратор, чтобы соскребать водорослевый налет с внутренней стороны стекла. И год спустя, когда Антуанетта сидела в подводной гримерке и, согнувшись, скатывала с ног мокрый хвост, Салли подошла к ней и протянула рекламный листок Диснейленда, только что открывшегося в Орландо.
– Ты – Золушка, – прошептала она.
С Антуанеттой во всю жизнь еще не случалось, чтоб ее до такой степени понимали.
– Да! – сказала она.
Так и вышло. Ее упаковали в атласное платье с юбкой на обручах и в циркониевую тиару. На пару с новой подружкой, Салли, она сняла квартирку в апельсиновой роще. В черном бикини, в кроваво-красной помаде на губах Антуанетта загорала себе на балконе, когда Гавейн поднялся по лестнице с наследным креслом-качалкой в руках.
Он заполнил собой дверной проем: шесть футов восемь дюймов ростом, до того заросший, что борода слилась с шевелюрой, и до того одинокий, что женщины чуяли его неприкаянность, когда он проходил мимо. Его считали недалеким, тугодумом, но, когда ему было двадцать, родители погибли в автокатастрофе, оставив его с семилетней сестрой на руках, и он оказался единственным, кто в полной мере осознавал ценность семейного надела. Родительские сбережения он употребил на первоначальный взнос в постройку завода по розливу чистой холодной воды из источника, бьющего на участке. Продавать жителям Флориды то, что принадлежит им по праву рождения, возможно, граничило с аморальностью, но ведь это вполне законный американский способ зарабатывать деньги. Денег он накопил, а тратить не тратил. Но когда желание обзавестись женой совсем допекло, выстроил усадебный дом, обнесенный со всех сторон высокими коринфскими колоннами. Он слышал, что женам нравится, когда много белых колонн. Он ждал. Жены не объявились.
Потом позвонила сестра попросить, чтобы он привез в ее новое обиталище кое-что из родительского дома, и вот он здесь и забыл, как дышать, когда увидел Антуанетту, белолицую и фигуристую. То, что она-то не поняла, кто стоит перед ней, вполне извинительно. Бедный Гавейн с колтуном на голове и в замаранной рабочей одежде. Она коротко улыбнулась ему и улеглась снова под ласковые лучики солнца.
Салли зорко глянула на подругу, на брата – и услышала тот щелчок, с которым все сложилось паз в паз.
– Гавейн, – сказала она, – это Антуанетта. Антуанетта, это мой брат. У него несколько миллионов в банке.
Антуанетта поднялась на ноги, проплыла по комнате, сдвинула на лоб солнечные очки. Гавейн оказался так близко, что смог разглядеть, как ее зрачок поглощает ее радужку, и собственное свое отражение в получившейся черноте.
Спешно устроили свадьбу. Русалки Антуанетты, поблескивая хвостами, со ступеней церкви осыпали новобрачных горстями рыбьего корма. Суровые янки, родня невесты, стойко переносили жару. Для свадебного торта Салли вылепила марципановые фигурки: Гавейн одной рукой держал у себя над головой лежащую на спине Антуанетту – адажио, грандиозный финал шоу русалок.
В течение недели была спешно заказана мебель для дома, наняты слуги, бульдозеры расчистили площадку под бассейн. Благополучное существование обеспечено, денег столько, что непонятно, куда их девать; а все остальное, качеством соответствуя каталогу, Антуанетту устраивало.
Но если комфорт она приняла как должное, то вот любовь явилась сюрпризом. Гавейн покорил ее чистотой сердца и мягкостью обращения. Она принялась за него и, сбрив все лишнее, обнаружила отзывчивое лицо и ласковые губы. В очках в роговой оправе, которые она ему купила, в сшитых на заказ костюмах, он выглядел значительным, если уж не сказать красивым. Преобразившись, он улыбнулся ей через всю комнату. В этот момент искра в ее глазах вспыхнула пламенем.
Десять месяцев спустя случился ураган – сын.
Само собой разумеется, трое взрослых исполнились убеждения, что Лотто – особенный. Золотой.
Гавейн выплеснул на него всю любовь, которую копил столько лет. Дитя как комочек плоти, вылепленный из упований. Гавейн, которого всю жизнь называли тупицей, держа на руках своего сына, ощущал вес гения.
Салли, со своей стороны, занялась домашним хозяйством. Нанимала нянек и увольняла их за то, что они не она. Когда малыш перешел на прикорм, разжевывала банан или авокадо и совала тюрю ему в рот, будто бы он цыпленок.
И Антуанетта, едва получив от него ответную улыбку, все силы обратила на Лотто. На всю громкость включала ему Бетховена, выкрикивая заученные музыкальные термины. Записалась на заочные курсы по ранней американской мебели, греческим мифам, лингвистике – и рефераты свои зачитывала ему целиком. Пусть это измазанное кашкой дитя, на высоком стульчике сидя, воспримет хотя бы малую долю того, чем она его кормит, кто ж знает, что застрянет в детском мозгу?
Если ему суждено стать великим, а она уверена была, что так и есть, основу величия нужно закладывать прямо сейчас.
Поразительная память Лотто проявила себя, когда ему стукнуло два года. Антуанетта была довольна.
[Темный дар; все будет даваться ему легко, а это чревато леностью.]
Как-то раз Салли вечером перед сном прочла ему детское стихотворение, а утром он спустился в столовую, взобрался на стул и громко его прокричал. Гавейн изумленно ему похлопал, Салли вытерла глаза занавеской. «Браво», – холодно произнесла Антуанетта и, стараясь унять дрожь в руке, протянула чашку, чтобы ей налили еще кофе.
Салли стала читать на ночь стихи попространнее, утром мальчик их предъявлял. С каждым успехом в нем крепла уверенность, ощущение, что он идет вверх по невидимой лестнице. Когда служащие завода по разливу воды приехали с женами погостить на длинные выходные, Лотто тишком спустился с верхнего этажа и в темноте заполз под стол, за которым все ужинали. Сидя там, как в пещере, он рассматривал ноги, торчащие из мужских мокасин, и влажные, пастельных цветов ракушки женских трусиков, а потом выскочил, декламируя «Если» Киплинга, чем заслужил бурную овацию. Радость от аплодисментов посторонних людей была омрачена натянутой улыбкой Антуанетты и ее тихим «Отправляйся в постель, Ланселот» вместо похвалы. Она заметила, что он меньше старается, когда она его хвалит. Пуритане хорошо понимают, в чем ценность отсроченного вознаграждения.
Лотто рос в душных испарениях Центральной Флориды, рядом с дикими длинноногими птицами, в изобилии фруктов, которые можно срывать с дерева. С тех пор как выучился ходить, утро он проводил с Антуанеттой, а днем исследовал заросли кустарника, бьющие из песка холодные родники и болота, где аллигаторы, прячась в тростнике, зорко за ним следили. Лотто был маленький взрослый, говорливый и жизнерадостный. Мать еще на год оставила его дома, не пустив в школу, и до первого класса он не знался с другими детьми, поскольку Антуанетта считала себя выше обитателей городка, а дочери управляющего были костлявы и необузданны, и она знала, к чему такое приводит, – нет уж, спасибо.
В доме ему, не ропща, прислуживали: если он бросал полотенце на пол, кто-нибудь да поднимет, если проснулся аппетит в два часа ночи, еда появлялась как по волшебству. Все старались угодить, и Лотто, у которого иных образцов для подражания не было, тоже был рад угождать. Расчесывал волосы Антуанетте, позволял Салли брать себя на руки, даже когда стал почти с нее ростом, и подолгу молча сидел в кабинете с Гавейном, умиротворяясь спокойным добродушием отца и тем, что время от времени тот отпускал шутку, и веселость вспыхивала подобно солнечному лучу, так что все жмурились ослепленно. А Гавейн наполнялся счастьем, просто вспомнив, что на свете есть Лотто.
Однажды ночью, когда Лотто было четыре, Антуанетта вынула его из кроватки. Принесла на кухню, там насыпала в чашку какао-порошок, но воды добавить забыла. Он ел порошок вилкой, выгребал, что прилипнет, и слизывал. Они сидели в темноте. Антуанетта уже год как забросила все заочные курсы в пользу проповедника, вещавшего в телевизоре. На вид тот был как пенопластовый бюст, вырезанный ребенком и раскрашенный акварелью, а жена его сильно подводила глаза и укладывала волосы в вавилоны, которые Антуанетта копировала. Она еще и кассеты с проповедями заказывала, слушала их у бассейна в огромных наушниках через восьмидорожечный магнитофон. Наслушавшись, выписывала чеки на гигантские суммы, которые Салли сжигала в кухонной раковине.
– Дорогой, – прошептала ему той ночью Антуанетта, – мы здесь для того, чтобы спасти твою душу. Знаешь ли ты, что станется с неверующими, такими, как твой отец и твоя тетя, когда придет Судный день?
Дожидаться ответа она не стала. О, она пыталась пролить свет истины на Гавейна и Салли. Страстно хотела оказаться с ними в раю, но они лишь пятились, застенчиво улыбаясь. Что ж, придется им с сыном горестно наблюдать с облаков, как те двое вечно горят внизу. Но Лотто она спасет. Чиркнув спичкой, Антуанетта тихим, дрожащим голосом принялась читать «Откровение». Когда спичка погасла, она, продолжая читать, зажгла другую. Лотто смотрел, как огонь поедает тонкие деревянные палочки. Когда пламя подбиралось к пальцам матери, он чувствовал жар в своих собственных, будто это его обжигает. [Тьма, трубы, морские твари, драконы, ангелы, всадники и многоглазые чудища! на десятки лет они поселятся в его снах.] Он смотрел, как шевелятся красивые губы матери, как закатываются ее глаза.
С тех пор просыпаться он стал с ощущением, что за ним присматривают, наблюдают и непрестанно его судят. Сплошная церковь день напролет. Когда в голову являлись дурные мысли, он делал невинное лицо. Даже наедине с собой притворялся, играл роль, выступал, как на сцене.
Если б жизнь текла так и дальше, Лотто вырос бы обыкновенным умненьким баловнем. Еще один благополучный ребенок с обычными детскими печалями.
Но настал день, когда Гавейн, как по будням бывало, в половине четвертого пришел с работы на перерыв и длинной зеленой лужайкой направился к дому. Жена спала у глубокого края бассейна, раскрыв рот и подставив ладони солнцу. Он осторожно накрыл ее простыней, чтобы не обгорела, и поцеловал в пульс на запястье. На кухне Салли доставала печенье из духовки. Гавейн обошел дом, сорвал мушмулу, покатал кислый плод во рту и уселся на крышку колодца с насосом между кустами гибискуса, откуда видна была грунтовая дорога, и сидел, пока – комарик, букашка, богомол – не показался на велосипеде его сынок.
Это был последний день седьмого класса. Перед Лотто широкой, неспешной рекой растеклось лето. По телику повторят фильмы, которые он пропустил из-за школы, покажут «Придурков из Хаззарда» и «Счастливые дни». По ночам они будут ходить на озера, охотиться на лягушек с острогой. Предвкушение счастья заливало дорогу ликующим светом. Факт того, что у него сын, ошеломлял и сам по себе, но личность сына, какой она вышла на деле, представлялась Гавейну чудом. Сын был благороден, умен и красив, лучше людей, которые его сотворили.
Но внезапно мир сжался, свернулся вокруг его мальчика. Надо же. Невероятно. Все вокруг, почудилось Гавейну, исполнилось той пронзительной ясности, когда виден каждый атом.
Лотто слез с велосипеда, когда увидел отца на старом колодце. Тот похоже что задремал. Странно. Обычно Гавейн не спал днем. Мальчик замер. По стволу магнолии застучал дятел. По ступне отца проскочила ящерка. Лотто уронил велосипед, подбежал, обхватил руками лицо Гавейна и так громко, так истошно позвал его по имени, что, вскинув глаза, увидел, как бежит его мать, эта женщина, которая не бегала никогда, – бежит со всех ног с простыней и вопит на высокой ноте, стремительная, как пикирующая белая птица.
Мир проявился таким, каким был на деле.
Под ногами грозно чернела тьма.
Лотто однажды своими глазами видел, как разверзлась внезапно воронка и земля поглотила старый семейный флигель. Воронки, они повсюду.
Поторапливаясь песчаными тропками меж стволов пекана, он стыл от ужаса сразу и от того, что земля вот-вот уйдет из-под ног и он кувыркнется в черноту, и от того, что этого не случится. Прежние радости утратили свои краски. Аллигатор на болоте, в шестнадцать футов длиной, скормить которому он утаскивал из морозильника замороженных целиком цыплят, сделался просто ящерицей. Разливочный завод – просто еще одной здоровенной машиной.
Весь город видел, как вдову стошнило в азалии и как ее красивый сынок поглаживал мать по спине. Те же высокие скулы, золотисто-рыжие волосы. Красота акцентирует скорбь, бьет прямо в сердце. Хэмлин оплакивал вдову и ее сына, а не грузного Гавейна, своего собрата и соотечественника.
Но рвало ее не только от горя. Антуанетта снова была беременна, ей прописали постельный режим. Месяцами город следил за тем, как подъезжали на шикарных машинах женихи в черных костюмах, с портфелями, следил и гадал, кого же она предпочтет. Кто не захочет себе в жены вдову столь богатую и привлекательную?
Лотто тонул, шел ко дну. Он пытался забросить учебу, но учителя привыкли считать его отличником и в поддавки не играли. Пытался слушать с матерью, держа ее за отекшую руку, религиозные передачи, но Бог его раздражал. Укоренились в памяти только зачатки: притчи, моральная стойкость, стремление к чистоте.
Антуанетта целовала его в ладонь и отпускала, лежа в своей постели, вялая, как морская корова. Ее чувства покоились под землей. На все вокруг она смотрела словно из далекого далека. Толстела себе да толстела. И наконец раскололась, словно огромный плод. Из нее выпало зернышко, крошка Рэйчел.
Когда Рэйчел кричала ночью, Лотто первым вставал к ней, садился в кресло и кормил смесью, покачивая. Она помогла ему пережить первый год, сестричка, которая была голодна, а он обладал возможностью насытить ее.
Физиономия у него покрылась угревой сыпью, прыщами, горячими и пульсирующими под кожей; он перестал быть красавчиком. Наплевать. Девчонки и так из кожи вон лезли, чтобы поцеловаться с ним, то ли из жалости, то ли потому, что богат. Он сосредотачивался на мягких, илистых девичьих ртах (виноградная жвачка и горячий язык) и так избавлялся от ужаса, который в нем обитал. Вечеринки с поцелуями по углам, в парках ночью. Он возвращался домой по темной Флориде, крутя педали быстро, как только мог, стремясь обогнать, опередить печаль, но печаль всегда была прытче и легко овладевала им снова.
Через год и день после смерти Гавейна четырнадцатилетний Лотто спустился на рассвете в столовую. Думал взять с собой пяток сваренных вкрутую яиц, чтобы подзаправиться по пути в город, где его ждала Трикси Дин, родители которой уехали на выходные. В кармане у него лежал баллончик аэрозоля от коррозии, на основе уайт-спирита. Парни в школе сказали, смазка – это важно.
– Милый, у меня новости, – донесся из темноты голос матери.
Он вздрогнул и, включив свет, увидел ее в черном костюме на дальнем конце стола, с зачесанными вверх волосами, коронующими ее, как пламя.
«Бедная Мувва, – подумал он. – Неухоженная какая. Растолстела. Думает, мы не знаем, что она так и сидит на болеутоляющих, которые стала принимать после Рэйчел. Думает, для нас это тайна. Нет».
Несколько часов спустя Лотто стоял на пляже, пытаясь сморгнуть слезы. Мужчины с портфелями были адвокаты, никакие не женихи. Все пошло прахом. Слуг больше нет. Кто будет все делать за них? Усадьба, детство, разливочный завод, бассейн, Хэмлин, где его предки жили века, – все, все пропало.
Призрак отца исчез. Продан за несусветную сумму.
Район, куда они съехали, был, вообще говоря, неплохой, Кресчент-Бич, но домик крошечный, розовый, стоял на сваях над дюнами, как бетонный кубик «лего» на ножках. Внизу все заросло пальмами, и пеликаны плаксиво переговаривались на горячем соленом ветру. Пляж такой, что можно гонять на машине. Пикапы, из которых ревел трэш-метал, прятались в дюнах, но в доме их было слышно.
– Вот это вот? – переспросил он. – Да ты могла бы купить сто миль пляжа, Мувва. Почему мы должны жить в этой коробке? Почему здесь?
– Дешево. Плюс потеря права выкупа, – с улыбкой мученицы произнесла мать. – Деньги ведь не мои, милый. Они твои и твоей сестры. Все в доверительном управлении на ваши имена.
Но что за дело ему до денег? Деньги он ненавидел. [Всю жизнь старался не думать о них, предоставляя другим беспокоиться, а сам считал, что у него и так всего вдоволь.] Деньги не были ни отцом, ни отцовской землей.
– Это кощунство, – сказал Лотто, рыдая от ярости.
Мать взяла в руки его лицо, стараясь не коснуться прыщей.
– Нет, милый, – лучезарно улыбнулась она. – Это свобода.
Лотто злился. Одиноко сидел на песке. Тыкал палками в дохлых медуз. Пил коктейли с замороженным соком у круглосуточного магазинчика при автозаправке на прибрежном шоссе А1А.
А потом подошел за горячей лепешкой тако к киоску, где обедали крутые ребята, он, этот мини-яппи в футболке поло, шортах «мадрас» и туфлях «доксайдерс», хотя нравы тут были такие, что девушки ходили по магазинам в бикини, а парни оставляли рубашки дома, пусть мускулы бронзовеют. В нем уже было шесть футов росту, а в конце июля четырнадцать превратится в пятнадцать. [Он был Лев, что полностью его объясняет.] Локти и коленки в ссадинах, волосы на затылке в вихрах. Несчастная, вся в угрях кожа. Растерянный, сбитый с толку, наполовину осиротевший, он вызывал желание обнять, утешить и приласкать. Девчонки обратили внимание, подкатили, стали спрашивать, как зовут, но он был слишком подавлен, чтобы интересничать, и они отстали.
Он ел сам по себе за столом для пикника. К губе прилипла соринка кинзы, что рассмешило прилизанного мальчика-азиата. Рядом с азиатом девчонка: грива с начесом, глаза подведены стрелками, губы в красной помаде, в бровь вколота английская булавка, а в носу блестит якобы изумруд. Она так в упор пялилась, что у Лотто зазудело в ногах. Стало ясно, хоть он не понял, с чего, что она очень даже по сексу. Рядом с ней сидел толстый мальчик, очкастый, с хитроватым лицом, ее близнец. Азиата звали Майкл, а рьяную девочку – Гвенни. Толстый был у них главным. Его звали Чолли.
В тот день там был еще один Ланселот, коротко Лэнс. Так уж совпало. Лэнс был недокормленный, тощий, бледный, похоже, из-за недостатка овощей в рационе. Ходил он, притворяясь, что хромоног, в шляпе набекрень и футболке такой длины, что со спины она мешком свисала ему ниже колен. Шлепая ртом в такт шагам, он отправился в туалет, а когда вернулся, то от него воняло. Кто-то, стоя сзади, дал ему пинка, и из-под футболки вывалилась маленькая какашка. Кто-то выкрикнул:
– Лэнс обосрэнс! – это ходило по кругу некоторое время, пока кто-то другой не вспомнил, что среди них есть еще один Лэнс, уязвимый, новенький, хлопающий глазами, чудной на вид, и к Лотто пристали:
– Что, малец, мы тебя обосраться как напугали?
– Как там тебя полностью кличут, а? Сэр Лансепоп?
Он ссутулился, бросил, что не доел, и поплелся прочь. Близнецы с Майклом догнали его под финиковой пальмой.
– Это настоящее поло? – спросил Чолли, щупая рукав Лотто. – Если да, то восемьдесят баксов за штуку.
– Чолл! – шикнула на него Гвенни.
– Позор консьюмеризму, – сказал Лотто, дернув плечом, и добавил: – Да подделка, я думаю, – хотя это явно было не так.
Они всмотрелись в него.
– Интересно, – сказал Чолли.
– Он клевый, – сказал Майкл.
Оба перевели взгляд на Гвенни, которая, щурясь на Лотто, сузила глаза так, что они превратились в щелочки, обрисованные размазанной тушью.
– Ну, ладно, – вздохнула она. – Думаю, мы можем его принять.
Когда она улыбалась, на щеке возникала ямочка.
Они были чуть постарше, перешли в одиннадцатый класс. Они знали то, чего не знал он. С того дня смысл жизни сместился к пляжу, пиву, наркотикам; он украл у матери обезболивающие, чтобы разделить их с друзьями. Днем скорбь по отцу притуплялась, ночью он просыпался в слезах. Наступил день рождения, он открыл поздравительную открытку и нашел в ней сумму, которая выдавалась ему еженедельно; пятнадцатилетний подросток счел это ужасно глупым. Лето протянулось вглубь учебного года, начало девятого класса осталось в памяти развеселой легкой гульбой. После уроков неизменно пляж допоздна.
– Попыхти этим, – говорили друзья. – Покури это.
Он пыхтел, курил, на короткий срок забывался.
Из трех новых друзей самой интересной была Гвенни. В ней что-то будто сломалось, но никто не хотел рассказать ему, что. Она переходила четырехполосное шоссе где и когда хотела; в магазинах запихивала себе в рюкзак баллончики со взбитыми сливками[2]. Она казалась ему дикой, неодомашненной, хотя близнецы жили на ранчо, в полной семье, у них было двое родителей, а в школе Гвенни в своем одиннадцатом три предмета изучала по программе повышенной сложности. Гвенни вздыхала по Майклу, Майкл хватал за коленку Лотто, когда другие не видели, а Лотто спал и видел, как разденет Гвенни и заставит ее себя трогать; как-то темным вечером он взял ее за холодную руку, и она руки не отняла, он сам сжал ее и отпустил. Иногда они все виделись ему как бы с высоты птичьего полета: круг за кругом гоняются друг за другом, и только Чолли особняком, мрачно наблюдает за бесконечным кружением, изредка пробуя встрять.
– Знаешь, – как-то сказал он Лотто, – мне кажется, до тебя у меня не было ни одного настоящего друга.
Они были в игротеке в пассаже, рубились в видеоигры и философствовали: Чолли – наслушавшись кассет, которые взял в Армии спасения, а Лотто – начитавшись учебника для девятого класса, который мог цитировать, не разбирая смысла. Лотто оглянулся, услышав эти слова, и увидел отражение колобка Пакмана в жирном блеске на лбу и на подбородке Чолли. Тот поправил очки и отвел глаза.
Лотто растрогался.
– Ты тоже мне нравишься, – сказал он, сам и не зная, что это правда, пока не проговорил вслух: Чолли, с его неуклюжестью, одинокостью и природной тягой к деньгам, напоминал Лотто отца.
Такая необузданная жизнь длилась только до октября. Всего несколько месяцев, а потом резкая перемена.
Вот он, поворотный момент, ранний вечер субботы.
Они на пляже с утра. Чолли, Гвенни и Майкл заснули на красном одеяле. Прожаренные солнцем, просоленные океаном, во рту кисло от пива. Бекасы и пеликаны, чуть подальше цапля-удильщик выхватила из воды золотистую рыбку длиной в фут. Лотто все смотрел и смотрел, пока не сложилась перед глазами картинка, которую он видел в книге: красного цвета море и кремнистая дорожка, воткнутая в него, как загнутый язычок колибри[3].
Лотто поднял лопатку, забытую каким-то ребенком, и начал копать. Кожа стянута, будто намазана резиновым клеем; ожоги печет, но мускулы под ними радуются движению. Сильное тело – блаженство. Море шипело и рокотало. Понемногу проснулись и остальные трое. Гвенни поднялась на ноги, шлеп-шлеп лямки бикини. Господи, он бы вылизал ее всю, от макушки до пальчиков на ногах. Она глянула, чем он там занят, – и поняла. Крутая девчонка, с пирсингом и татушками, как у уголовников, которые сама сделала, булавками и чернильной ручкой, и глаза ее переливаются через подводку. Опустилась на колени и локтями взялась разгребать песок. Из грузовичка пляжной охраны Чолли и Майкл стащили лопаты. Майкл вытряхнул на ладонь амфетамин из пузырька, который он спер у матери, и каждый по таблетке слизнул. Копать стали по очереди, сцепив зубы.
Четверо неблагополучных детей в начале октября, сквозь сумерки в темноту. Неспешно всплыла луна, пустив по воде белую струйку. Майкл собрал плавник, развел костер. Бутерброды, присыпанные песком, они давно съели. Ладони в кровавых волдырях. Это было неважно. В самое сокровенное место, в зародыш спирали, они опрокинули боком вышку спасателя, зарыли ее и плотно утоптали песок. Стали угадывать, один за другим, что Лотто держал в голове, затевая эту скульптуру: моллюска-наутилуса, побег папоротника, галактику? Нить, свисающую с веретена? Силы природы, совершенные в своей красоте и эфемерные совершенно? Они гадали, а он стеснялся сказать: «время».
Он проснулся тогда с пересохшим языком и с намерением сделать абстрактное конкретным, воплотить то, что сейчас во сне понял: время так и устроено, оно – спираль.
Бесполезность усилий и недолговечность трудов соответствовали задаче.
Океан подступал все ближе. Лизал им ноги. Толкался во внешнюю стенку спирали, прокладывал путь внутрь. Когда вода размыла песок и показались внизу перекладины вышки спасателя, белые, словно кость, что-то сломалось, и осколки разлетелись по будущему.
[Этот день извернется дугой и все-все собой озарит.]
Уже на следующую ночь это все и закончилось. Чолли, раздухарившись под кайфом, в темноте спрыгнул все с той же вышки спасателя, снова водруженной стоймя. На мгновение его силуэт обрисовался на фоне полной луны, но затем он приземлился – под отвратительный хруст кости. Ногу сломал. Майкл спешно повез его в больницу, оставив Гвенни и Лотто на неосвещенном пляже, на холодном осеннем ветру. Гвенни взяла Лотто за руку. Он почувствовал, как по коже побежали мурашки: пришел час, он вот-вот расстанется с девственностью. Она уселась на руль его велика, и они двинули на вечеринку, в какой-то заброшенный дом на болоте.
Там попили пивка, наблюдая, как ребята постарше тусят вокруг большого костра, а потом Гвенни потащила Лотто по дому. Свечи в жестянках на подоконниках, на полу матрасы, блики на коленках, плечах и ягодицах. [Зов плоти! Вечная история, обновляемая молодыми телами.]
Гвенни распахнула окно, они вылезли и уселись на крыше веранды. Она что, плакала? Тушь расползлась по скулам, пугая потеками. Она первая приникла губами к его губам, и у Лотто, который не целовался с тех пор, как обосновался на пляже, знакомо потекла по жилам раскаленная лава.
Веселились вокруг шумно.
Оттолкнув, она уложила его спиной на шершавый толь. Он смотрел на ее светящееся лицо, а она приподняла юбку, сдвинула вбок ластовицу, и Лотто, который всегда, всегда был готов включиться в самые неожиданные фантазии на тему – след кулика на песке намекал ему на промежность, галлонные бутыли молока приводили на ум сиськи, – оказался не готов к такому стремительному началу.
Ну и ладно. Гвенни запихнула его в себя, хотя сама была сухая совсем. Он прикрыл глаза и стал думать о манго и о папайе, фруктах терпких и сладких, сочащихся соком, а потом стало не до того, он застонал, и все тело его растеклось в мед, а Гвенни глянула на него, и на искусанных губах у нее разрослась улыбка, и она закрыла глаза и отдалилась куда-то, и чем больше она отдалялась, тем сильнее стремился к ней Лотто, словно гнался за лесной нимфой. Припомнив тайные уроки порножурналов, он перевернул ее, поставил на локти и колени, и она посмеивалась над ним, глядя через плечо, а он закрыл глаза и вломился, почувствовал, как она выгнулась, словно кошка, зарылся пальцами в ее волосы, – и вот тогда заметил рвущееся из окна пламя. Но остановиться не мог. Никак. Понадеялся просто, что дом продержится, выстоит, пока Лотто не кончит. О, что за кайф, это его стихия. Вокруг все трещало и обжигало, обдавало жаром, как солнце, Гвенни содрогалась под ним, и – раз-два-три! – он взорвался внутри нее.
И тут же закричал ей на ухо: уходим, уходим, бежим! Даже оправляться не стал, а подполз к краю крыши и спрыгнул в заросли саговых пальм внизу. И Гвенни слетела к нему, распустив юбку тюльпаном. Они выползли из кустов – у него стручок свисал из ширинки – навстречу ехидным аплодисментам пожарных.
– Отличная работа, Ромео, – сказал один из них.
– Ланселот, – прошептал он.
– Зови меня Дон Жуан, – сказал полицейский, защелкивая наручники сначала на Лотто, а потом и на Гвенни.
Ехать было недалеко. Она даже не глянула на него. Он больше никогда ее не увидит.
Потом была камера с вонючим, как тролль, унитазом в углу, лампочка под потолком, которая шипела-шипела и наконец лопнула на рассвете, осыпавшись стеклянным дождем, и Лотто ползал по полу, выискивая осколок, который сгодился бы вместо бритвы.
Дома. Унылое личико Салли, Рэйчел с пальцем во рту, приникшая к Лотто. Ей только год, а уже скрутило всю от тревоги. Решено: они упрячут его подальше от этого хулиганья, от малолетних преступников. Антуанетта прикрыла за собой дверь, хрустнула пальцами и подняла телефонную трубку.
Наличные смажут какое угодно колесо. К вечеру все было сделано. К вечеру он уже поднимался по трапу в самолет. Оглянулся. Салли с Рэйчел на руках, обе плачут. Антуанетта стоит, уперев руки в бока. Лицо перекошено. Злится, показалось ему. [Он ошибался.]
Люк закрылся за Лотто, мальчиком, изгнанным за грехи.
Ничего не осталось в памяти от перелета на север, только оцепенение. Проснуться утром, в окне солнце и Флорида, а улечься спать в тот же день в холодном мраке Нью-Гэмпшира! Общежитская спальня смердела немытыми ногами. Живот сводило от голода.
В тот вечер в столовой за ужином ломоть тыквенного пирога влепился ему в лоб. Он поднял глаза и увидел, что парни смеются над ним. Кто-то крикнул: «Бедный тыквенный пай!» Кто-то еще: «Бедный пай из Флориды!» И еще кто-то: «Пай из ебеней!» – вызвав гуще всего ржание. В общем, так его и прозвали. Он, всю свою жизнь ходивший повсюду в зной и жару так, будто все вокруг принадлежало ему [он и был там хозяином, точно], теперь, втянув голову в плечи, неуверенно ставил ногу на промерзлый асфальт. Пай-Из-Ебеней, деревенщина для этих мальчиков из Бостона и Нью-Йорка. Прыщавый, утративший свою детскую миловидность, слишком длинный, слишком худой. Южанин, особь второго сорта. Богатство, которое когда-то выделяло его, между богатых не значило совсем ничего.
Он просыпался перед рассветом, дрожа, спускал ноги с кровати, глядел, как светлеет в окне. «Фа-тум, фа-тум», – стучало сердце. Кафетерий, холодные блинчики и недоваренные яйца, потом – по схваченной льдом земле к часовне.
Он звонил домой каждое воскресенье в шесть вечера, но Салли не была расположена поболтать, Антуанетта нигде не бывала и мало что могла сообщить, кроме того, что ей сказали по телевизору, а Рэйчел еще слишком мала, чтобы составить связное предложение. Минут через пять приходилось класть трубку. Снова темное море, в котором плыть до следующего звонка.
Тепла в Нью-Гэмпшире не водилось. Даже с неба несло холодом, как от жабы. В половине шестого, когда открывался тренажерный зал, Лотто шел к джакузи у бассейна, выжарить лед из костей. Витал в пару, представляя, как друзья покуривают на солнце. Будь с ним Гвенни, они перепробовали бы уже все мыслимые способы спаривания, даже апокрифические. Один Чолли ему писал, хотя редко что-то длинней шутки на порнооткрытке.
Лотто подумывал о балках спортзала, они были на высоте футов в пятьдесят, не меньше. Прыжок ласточкой на мелководье положит всему конец. Или нет, лучше залезть на крышу обсерватории, обвязать шею веревкой и спрыгнуть. Нет. Пробраться в хозблок, набрать порошков, которыми чистят ванные, наесться их, как мороженого, пока внутренности не вспенятся и не полезут наружу. В воображении уже присутствовал момент театральности.
Приехать домой ни на День благодарения, ни на Рождество ему не разрешили.
– Я что, до сих пор наказан? – спросил он, стараясь, чтобы голос звучал по-взрослому ровно, но сорвался.
– Ну что ты, милый, – ответила Салли. – Это не наказание. Твоя мама хочет, чтобы у тебя была лучшая жизнь.
Лучшая жизнь?! Да его зовут здесь Пай-Из-Ебеней! Не приученный сквернословить, он даже пожаловаться домашним, что за прозвище ему дали, не мог. Одиночество взвыло громче. Тут все занимались спортом, его определили грести в восьмерке новичков, так что ладони пошли волдырями, которые затвердели в мозоли, себе же броней.
Его вызвал декан. До него дошло, что у Ланселота проблемы. Оценки отличные, не тупой. В чем дело? У декана брови были как те гусеницы, что за ночь могут сожрать целую яблоню. Да, сказал Лотто, да, мне здесь плохо. Хм, хмыкнул декан. Парень хорошего роста, неглуп и богат. [И белый.] Такие парни, как он, рождены стать лидерами. Возможно, предположил декан, если купишь специальное мыло для лица, то займешь на ступеньках место повыше? У него есть приятель, кстати, который мог бы выписать рецепт, – и принялся искать блокнот, чтобы дать телефон. В открытом ящике знакомо блеснул маслянистый бок пистолета. [Прикроватная тумбочка Гавейна, кожаная кобура.] Только это и видел Лотто перед собой, когда, спотыкаясь, влачил свои дни дальше: промельк пистолета, тяжесть которого он ощущал в руках.
В феврале на уроке английской литературы дверь класса открылась, и вошел уродец в красной накидке. Правда, личико как у гусеницы. Тестоватое, жирно блестит, редкие волоски. По классу пробежался смешок. Сбросив свою накидку, коротышка написал мелом на доске «Дентон Трэшер». Закрыл глаза, и когда открыл, лицо его было искажено болью, а руки вытянуты так, будто он держит перед собой что-то тяжелое. Корделию.
Вопите, войте, войте! Вы из камня!
Мне ваши бы глаза и языки —
Твердь рухнула б!.. Она ушла навеки…
Да что я, право, мертвой от живой
Не отличу? Она мертвее праха.
Не даст ли кто мне зеркала? Когда
Поверхность замутится от дыханья,
Тогда она жива.[4]
Тишина. Никаких смешков. Класс замер.
А у Лотто неведомое ему прежде местечко внутри высветилась, зажглось. Вот он, ответ на все вопросы. Ты можешь отставить себя, отстранить, превратиться в того, кто не ты. Можешь заткнуть рот самому страшному в мире – комнате, полной злых мальчишек. После смерти отца у Лотто перед глазами все расплылось. В этот момент к нему вернулась острота зрения.
Пришелец тяжко вздохнул и снова обратился собой.
– Ваш учитель подхватил какую-то хворь. Плеврит. Или менингоэнцефалит. Я буду вместо него. Я – Дентон Трэшер. А теперь скажите-ка мне, мальцы, что вам задано прочитать?
– «Убить пересмешника», – прошептал Арнольд Кэбот.
– Господи, спаси и помилуй, – пробормотал Дентон Трэшер, подхватил мусорную корзину и прошелся по рядам, сбрасывая в нее книжки в мягкой обложке. – Стоит ли забивать голову обычными смертными, когда едва подступился к Барду! Нет уж, пока я тут, вы будете потеть над Шекспиром. И они еще смеют называть это прекрасным образованием! Да если так дальше пойдет, через двадцать лет нами будут править японцы. – Он присел на край стола, упершись руками в бедра у паха. – Прежде всего, – сказал он, – объясните-ка мне, в чем разница между трагедией и комедией.
– Серьезность и смех, – сказал Франсиско Родригес. – Весомость и легкость.
– Неверно, – сказал Дентон Трэшер. – Обман зрения. Разницы нет. Всего лишь вопрос видения. Повествование – это панорама, а драма – то комедия, а то трагедия. Все зависит лишь от того, как оформить то, что ты видишь. Вот смотрите. – Он сложил пальцы в рамку и стал водить ею по классу, пока не остановился на Повидле, печального вида мальчике с шеей, которая болталась в воротнике.
Дентон проглотил то, что собирался сказать, и передвинул свою рамку на Сэмюэла Харриса, шустрого, всеми любимого мулата, рулевого той лодки, где Лотто был гребцом, и сказал:
– Трагедия!
Класс грохнул, и Сэмюэл хохотал громче всех; его вера в себя была как стена ветра. Дентон Трэшер передвинул рамку так, что в ней появилось лицо Лотто, и Лотто со своей стороны увидел, как тот смотрит на него своими глазами-бусинками.
– А это комедия, – провозгласил Трэшер.
Лотто смеялся со всеми, но не потому, что стал героем инсценировки, а из благодарности к Дентону Трэшеру. Тот открыл ему театр. Вот он, единственный способ, которым Лотто сможет существовать в этом мире.
Он сыграл Фальстафа в весенней постановке, но, когда смыл грим, в него снова вползло его собственное жалкое «я».
– Браво! – воскликнул Дентон Трэшер на прочтенный в классе монолог из «Отелло», но Лотто лишь скривил губы в полуулыбке и отправился на свое место.
В тренировочном заезде его восьмерка новичков опередила сборную по академической гребле, и Лотто повысили до загребного, который задает ритм. Но в душе царило уныние, даже когда распустилась листва и вернулись птицы.
В апреле Салли позвонила, в слезах. Лотто нельзя приехать домой на лето. «Есть… опасности», – сказала она, и он понял: она про то, что его друзья всё еще вьются поблизости. Он представил, как Салли, за рулем, видит, что они идут по шоссе и как ее руки сами собой направляют машину на них наехать. А ему так хотелось обнять сестру; она выросла, она даже не вспомнит его. Хотелось съесть что-то, приготовленное руками Салли. Вдохнуть запах духов матери, услышать, как мечтательным своим голоском она рассказывает о Моисее или Иове так, будто то были люди, которых она знала лично. «Пожалуйста, – прошептал он, – я очень прошу, я даже из дому не выйду!» И Салли сказала ему в утешение, что летом они втроем его навестят и съездят все вместе в Бостон.
Флорида в воображении представилась пылающим солнцем. Ослепнешь, если взглянешь в упор. Детство скрылось за пламенем, не разглядеть.
Он в отчаянии повесил трубку. Оставшийся без друзей. Всеми покинутый. Взвинченный жалостью к самому себе.
План сложился за ужином, после битвы шоколадными брауни с мятой.
Дождавшись, когда стемнеет и цветы на деревьях станут как бледные мотыльки, Лотто вышел на улицу.
В административном здании – кабинет декана, в кабинете – письменный стол, в ящике стола – пистолет. Он представил, как декан утром откроет дверь, увидит брызги, как отшатнется и сделает шаг назад.
Салли и мать, они взорвутся от горя. Отлично! Он и хотел, чтоб они рыдали все оставшиеся им дни. Он хотел, чтобы и умирали они, рыдая, коря себя за то, как с ним поступили. Колебался он, только думая о сестре. Да, но она совсем маленькая. Она и знать не будет, что потеряла.
Здание стояло темной глыбой. Он нащупал дверь – та оказалась не заперта и от толчка открылась. Удача сопутствовала ему. [Кто-то сопутствовал.] Рискнуть включить свет он не смел. Шел, ведя рукой по стене: вот доска объявлений, вешалка для верхней одежды, опять доска объявлений, дверь, стена, дверь, угол. Край огромного черного пространства, которое было просторным холлом. Он мысленно увидел его, освещенное дневным светом: двойная изогнутая лестница в дальнем конце. Узкий балкончик опоясывает второй этаж, увешанный портретами корпулентных белых мужчин. Со стропил свисает старинная весельная лодка. Днем свет в верхних окнах перемещается от одного к другому. Сейчас, ночью, окна сочились чернотой.
Он закрыл глаза. Он храбро дойдет до конца. Шаг, другой. Приятно пружиня по ворсу ковра, радуясь головокружительной пустоте впереди, он бодро сделал еще три шага бегом.
Его ударило по лицу.
Он свалился на четвереньки, проскреб пальцами ворс. Его снова ударило, по носу. Он поднял руку, но над ним ничего не было; нет, вот оно снова. Он подался назад, чувствуя, как что-то проскользнуло над ним. Перехватил это что-то. Вцепившись в него, ощутил ткань. Ткань поверх дерева, нет, это не дерево, пенопласт на стальной основе, нет, не пенопласт, пудинг под твердой коркой? Ниже что-то кожаное. Шнурки? Ботинок? Его стукнуло по зубам.
Он отполз, встал – откуда-то донеслось визгливое похоронное причитание, – вслепую двинулся наугад вдоль стены, целую вечность спустя нащупал выключатель и в ярком, ужасающе ярком свете увидел подвешенную к потолку лодку, перекошенную носом вперед, и на ней болталась самая жуткая елочная игрушка на свете. Мальчик. Мертвый мальчик. С синим лицом. Язык наружу. Очки съехали набок. Еще миг, и пришло узнавание: ох, да это же бедный Повидло! Свисает с носа стреловидной восьмерки. Забрался в нее, завязал петлю. Спрыгнул. По рубашке размазан мятный брауни с ужина. Из Лотто вырвался и угас стон. Он опрометью пустился бежать.
Когда полиция и скорая помощь уехали, явился декан. Принес Лотто пончики и какао. Брови выплясывали у него по лицу под тяжкие думы о судебных исках, эпидемии самоубийств и утечке в газеты. Он высадил Лотто у общежития, но, когда задние огни скрылись из виду, Лотто снова вышел на воздух. Невмочь было остаться рядом с парнями, которые сладко дрыхли себе под беспокойные сны про девчоночью анатомию и летнюю стажировку.
Колокол часовни пробил три пополуночи, когда Лотто вдруг осознал, что сидит на сцене в актовом зале.
Обширный полукруг кресел хранил на себе отпечатки тел. Он достал косяк, который рассчитывал выкурить перед тем, как засунуть в рот дуло. Все впустую, все псу под хвост.
Справа от сцены раздалось легкомысленное посвистывание. Из кулис появился Дентон Трэшер, без очков, в потрепанной клетчатой пижаме, с несессером в руке.
– Дентон? – спросил Лотто.
Тот вглядывался в темноту, прижимая футляр к груди.
– Кто тут? – спросил он.
– «Нет, сам ответь мне; стой и объявись»[5], – сказал Лотто.
Неслышным шагом Дентон подошел к краю сцены.
– А, это ты, Ланселот. Напугал меня до смерти. – Кашлянул и спросил: – Сдается мне, я слышу знойный запах каннабиса?
Лотто вложил косяк в протянутую ладонь, и Дентон сделал затяжку.
– Что это вы тут в пижаме? – спросил Лотто.
– Вопрос в том, дорогой мой, что это тут ты! – Уселся рядом с Лотто и, криво усмехнувшись, добавил: – Неужто искал меня?
– Нет, – сказал Лотто.
– А, – сказал Дентон.
– Но вы так и так здесь, – сказал Лотто.
Когда косячка не осталось, Дентон сказал:
– Экономлю. Захватил костюмерную. Я смирился с нищенской старостью. Тут еще не так плохо. Хоть клопов нет. И мне нравится бой часов.
Как по команде, пробило три тридцать, и они рассмеялись.
Лотто сказал:
– Я сегодня вечером нашел мальчика, который повесился. Убил себя. Подвесил.
Дентон замер.
– О боже, – сказал он.
– Я его толком и не знал. Все звали его Повидло.
– Гарольд! – сказал Дентон. – Бедняга. Я пытался разговорить его, но он был слишком зажат. Вы, мальчишки, совсем не знаете жалости. Дикари. Нет, только не ты, Лотто. Я не про тебя, нет. Мне так жаль, что тебе выпало первым его увидеть.
У Лотто перехватило горло, и он увидел, как сам свисает с носа лодки, раскачивается, пока не откроют дверь, не зажгут свет. Увидел и осознал вдруг, что, если б даже прокрался по лестнице, нашел кабинет декана незапертым, выдвинул ящик и взял пистолет в руку, что-то в нем все равно воспротивилось бы. Так это закончиться не могло. [Точно. Его время тогда не пришло.]
Дентон Трэшер обнял Лотто и вытер ему лицо подолом пижамы, обнажив поросший пушком белый живот, и Лотто, укачиваемый на краю сцены, вдыхал запах гамамелиса, листерина и ткани, которую неплохо было бы почаще стирать.
Это дитя, Ланселот, на коленях у Дентона. Совсем мальчик еще, он плачет, с грани свежего горя скатываясь к тому, что лежит глубже. Дентона это страшит. Четыре утра. Славный Ланселот, такой одаренный, даже, пожалуй, слишком, пусть Дентон и распознал в нем редкую искру. Он и внешне многое обещает, хотя есть намек, что нечто важное из обещанного было и улетучилось, оставив после себя шрам, – это странно, ведь мальчику не больше пятнадцати. Что ж, привлекательность, возможно, вернется. Возможно, лет через десять он станет неотразим, возмужает, взрастит здоровенное до нелепости тело: уже сейчас, когда он на сцене, чувствуется мощь прирожденного актера. Хотя в мире, Дентону ли не знать, прирожденных актеров избыток, полным-полно.
Господи, часы бьют уже половину пятого, а они так и сидят тут, это просто безумство.
Справиться с таким горем Дентон не мог. Слишком слаб.
[Горе – удел сильных, они пользуются им как топливом на обогрев.]
Что, так и буду сидеть здесь с мальцом во веки веков, терзался он. На ум пришло только одно средство, способное остановить этот поток слез, и, недолго думая, он усадил дитятко прямо, порылся у него в коленях и выудил из джинсов удивленного бледного червяка. Во рту тот впечатляюще подрос, слава богу, и этого хватило, чтобы слезы затихли. Эстафетная палочка молодости! И по-юношески проворная. Но все, эта слишком твердая плоть уже плавилась, таяла, истекала горячей росой…
Дентон Трэшер вытер рот, сел. Что он наделал? Глаза мальчика скрылись в тени: «Я – спать», – прошептал он и помчался между рядами, к дверям, вон. Жаль-жаль, подумал Дентон. И как это театрально, что придется бежать ночью. Он будет скучать по этому месту. Сокрушаться, что не видит, как Ланселот растет и мужает. Он встал и раскланялся. «Благословен будь», – сказал он огромному пустому театру и направился в костюмерную паковать вещи.
Сэмюэл Харрис, встав пораньше на тренировку, глянул в окно и увидел, как по темному двору бежит Пай-Из-Ебеней, бежит и лицо у него кривится от плача. Бедолага, как прибыл в школу в середине осеннего семестра, так и не может обжиться, киснет от тоски, прямо сочится печалью. Сэмюэл был рулевым в той же команде, что Пай, почти каждый день устраивался у него в коленях, и несмотря на то, что Пай считался в некотором роде изгоем, Сэмюэл к нему присматривался: шесть футов три дюйма росту и всего сто пятьдесят фунтов весу, он был какой-то оцепенелый, а щеки – как куски отбивной. По всему выходило, доведет себя до греха.
Услышав, как Лотто топает вверх по лестнице, Сэмюэл распахнул дверь и втащил его в свою комнату, накормил овсяным печеньем, которое мама присылала из дома, и под это дело выудил всю историю. О боже, Повидло! Лотто сказал, что после полиции еще несколько часов просидел в актовом зале, пытался прийти в себя. Он, похоже, хотел добавить что-то еще, но подумал и воздержался. Сэмюэл, представив, как в этом случае поступил бы его отец, сенатор, натянул на лицо мужественно-угрюмое выражение, приобнял Лотто и похлопывал его по плечу, пока тот не унялся. По ощущениям было похоже на то, как если бы они перешли мост за секунду до того, как мост рухнул.
Еще месяц потом Сэмюэл наблюдал, как Лотто слоняется по кампусу. А когда занятия в школе закончились, взял его с собой в летний домик в Мэне. Там с отцом Сэмюэла, сенатором, и его матерью, поджарой, как гончая, представительницей высшего чернокожего общества Атланты, Лотто распробовал катание на парусных лодках, морских моллюсков, печеных на раскаленных камнях, приятелей в трикотаже от Лилли Пулитцер и «Брукс бразерс», шампанское, остывающие на подоконнике пироги и лабрадоров-ретриверов. Мать Сэмюэла купила ему мыло для лица и хорошую одежду, заставляла его есть и держать спину.
Он вырос и стал собой. Преуспел и с двоюродным братом Сэмюэла, сорока лет, который загнал его в угол в лодочном сарае; к полному своему удовлетворению Лотто узнал, что на вкус коричневая кожа от розоватой не отличается.
И когда они вернулись в школу на второй год обучения, у Лотто на щеках золотился такой загар, что шрамы от прыщей было легко не заметить. Он стал блондинистей и раскрепощенней. Улыбался, шутил, научился раскрываться на сцене и за ее пределами. Никогда не прибегая к крепким словцам, демонстрировал свое хладнокровие. Никогда не напоказ, не стремясь выделиться, друг Сэмюэла сделался популярней самого Сэмюэла, а уж тот-то, сияя карими глазищами, был уверен в себе, как песчаный самум, но что уж теперь. На протяжении долгих лет их дружбы Сэмюэл при каждом взгляде на друга сознавал в себе чудотворца, вернувшего Лотто к жизни.
Потом, на втором курсе, незадолго до Дня благодарения, Лотто, направившись как-то к себе после математики, обнаружил, что под дверью мешком сидит Чолли, бледный, как воск, и подпахивающий.
– Гвенни, – сказал Чолли и, застонав, сложился вдвое.
Втащив его в комнату, Лотто услышал обсевки истории: у Гвенни был передоз. Как она могла умереть, рисковая, полная жизни Гвенни? Но она умерла. Чолли ее и нашел. Он убежал из дому. Пойти ему, кроме как к Лотто, было некуда.
Бежевый линолеум превратился в океан, рушась волна за волной, уходя из-под ног. Лотто сел. Как быстро все завертелось. Две минуты назад он был малышня, цацкался со своей «нинтендо», сомневался, сладит ли с асимптотами и синусоидами. Теперь же он взрослый, к нему пришли за поддержкой. Позже, когда они чуток успокоились и двинули в городок по пиццу, Лотто сказал Чолли то, что с самой ночи пожара хотел сказать Гвенни: «Положись на меня».
Он почувствовал в себе силы, чтобы принять вызов. До конца семестра Чолли спал на его кровати; Лотто был не против спать на полу. [На протяжении всей учебы Лотто в средней школе и колледже Чолли брал деньги, которые Лотто охотно ему давал, уматывал по каким-то своим делам, а потом возвращался. Он посещал все, куда только пускали, занятия, дипломов не получил, но знаний набрался с лихвой. Если люди не доносили на Лотто, что у него живет посторонний, то потому лишь, что любили его, а не потому, что им было жаль Чолли, которого один Лотто способен был выносить.]
Лотто еще раз понял, что мир – ненадежное место. Вычесть людей из него легче легкого, такая дурацкая арифметика. Если можно в любой момент умереть, надо вовсю жить!
И тут началась эра женщин. Поездки в город, в ночных клубах насквозь потные футболки, кокаиновые тропки на журнальных столиках в стиле «модерн середины века», родители в отъезде. Все в порядке, чувак, не дрейфь, экономке все равно. Секс втроем с двумя девушками в чьем-то сортире.
– Может, приедешь домой этим летом? – предложила Антуанетта.
– О, теперь я тебе понадобился? – отказываясь, съязвил Лотто.
Дочь директора на поле для лакросса. Засосы. Снова домик в Мэне, кузен Сэмюэла, ему уже сорок один, в захудалом мотеле, соседка в гамаке, туристка, вплавь отчалившая после того ночью на парусник. Сэмюэл только глаза закатил от зависти. «Вольво-универсал», купленный на карманные деньги. К сентябрю Лотто подрос еще на три дюйма: шесть футов шесть дюймов. Отелло, идентичный одноименному, и семнадцатилетняя Дездемона из городка, гладко выбритая, обнаружил Лотто, как допубертат. Весна, лето в Мэне; осень, крупнейшая в мире регата на реке Чарльз, место в восьмерке университета. День благодарения в доме Сэмюэла в Нью-Йорке.
На Рождество Салли повезла их с Рэйчел в Монреаль.
– Что, без Муввы? – спросил он, стараясь не выдать, как сильно задет.
Салли покраснела.
– Она стыдится того, как выглядит, – мягко сказала она. – Она теперь толстая, щеночек. Совсем не выходит из дому.
Досрочное поступление в Вассар, единственный колледж, в который он сверхсамонадеянно подал заявку; там отличный преподавательский состав, команда самое то – только по этой причине он сделал свой выбор. Отпраздновал это дело с приехавшей на выходные пятнадцатилетней сестричкой Сэмюэла в туалете для инвалидов. Только смотри не проговорись Сэмюэлу! Испепеляющий взгляд. Я что, идиот? И вот сюрприз – Сэмюэл тоже нацелился на Вассар, и хотя его брали всюду, он скорее бы сдох, чем лишился веселой компашки Лотто.
На выпускной прибыли только отощавшая вконец Салли и четырехлетняя Рэйчел, которая не слезала у него с рук. Мувва не приехала. Чтобы разогнать печаль, Лотто представил мать русалкой, какой она когда-то была, а не тучной женщиной, которая поглотила русалку.
Потом домик в Мэне. Кузен Сэмюэла, тому уже сорок три, увы, в Швейцарии. Сестра Сэмюэла в оранжевом бикини, с прилипшим к ней, слава богу, лохматым бойфрендом. За все лето только одна подружка, балерина с язычком, как у ехидны, и что она вытворяла ногами! Игры в крокет. Фейерверки. Пивной пир на пляже. Парусная регата.
Наступила последняя неделя лета. Прощальный ужин в приморском ресторане. Приунывшие предки Сэмюэла возились с новым щенком лабрадора, который все норовил вскочить на стол. «Наши мальчики, – сказала мать, – становятся взрослыми». Мальчики, считавшие себя взрослыми все эти ни много ни мало четыре года, из добрых чувств к ней выслушали это, не моргнув глазом.
Из душной общаги частной школы для мальчиков – в страну чудес колледжа. Общие ванные для студентов обоих полов: женские груди в мыльной пене. Столовая: девушки слизывают мягкое мороженое. Через два месяца Лотто заработал прозвище Сексмайстер. И неправда, что ему недоставало стандартов, нет, просто его сражал любой стан, в любой женщине он умел отыскать прелесть. Мочки как ягодки белой черешни. Легкий золотистый пушок, что окаймляет виски. Такое затмевает все прочее, даже более пряное. Лотто зрил себя антиподом монаха, анти-монахом, отдавшимся служению плотской любви. Он умрет древним сатиром в доме, полном прекрасных нимф, и, резвясь, те проводят его до могилы. Что, если из всех талантов, данных ему, величайший тот, который он применяет в постели? [Заблуждение! У высоких мужчин до того длинные конечности, что сердцу приходится надрываться, перекачивая кровь в нижние отделы. Лишь посредством очарования он заставлял партнерш считать себя лучше, чем был на поверку.]
Общежитские: потрепанная жизнью специалистка по феминистским исследованиям с пробитыми пирсингом сосками; студентка из местных с жировой складкой, выпиравшей из джинсов-варенок; чопорная неврологиня-сексолог в очках с толстыми стеклами, посвятившая труд «позе наездницы», – придирчиво наблюдали за парадом девиц. Сидя в общей комнате, они отслеживали, кто пришел, и когда Лотто с девицей исчезали за его дверью, доставали гроссбух, в котором отмечали и классифицировали тех, кто прибыл впервые.
Australianopithecus: австралийка пышноволосая, впоследствии знаменитая джазовая скрипачка.
Virago stridentica: мегера напористая, неоднозначного полу, панк-рокерша, которую Лотто подцепил где-то в центре.
Sirena ungulatica: сирена копытная, нежное личико отличницы над трехсотфунтовой тушей.
Посетительницы про то не прознают. Соседки не считали себя жестокими. Но когда, месяца через два, они показали гроссбух Лотто, он пришел в ярость. Разорался, обозвал мизогинистками. Они пожимали плечами. Женщины, которые дают себя поиметь, заслуживают презрения. Лотто же вправе поступать так, как поступают мужчины. Эти правила не ими придуманы.
Мужчин Лотто в общагу не приводил. Ни в какой гроссбух они не попали. Остались невидимы, призраки его постельных желаний, вне постели.
Это был последний показ студенческого спектакля. «Гамлет». Те, кто вбежал в зал после последнего звонка, промокли насквозь; тучи, весь день ходившие над долиной, прорвались ливнем. Офелия играла голой, умопомрачительные буфера в синих прожилках, прямо сыр «стилтон». Гамлет был Лотто и наоборот. После каждого представления ему устраивали овацию стоя.
В темноте кулис он размял шею и глубоко, животом, вдохнул. Кто-то всхлипывал, кто-то закуривал. Шорохи как в сумеречном амбаре. Шепотки. «Да, я устроилась в банк…» «Скороговорун скороговорил скоровыговаривал, что всех скороговорок не перескороговоришь не перескоровыговариваешь…» И актерское, перед выходом: «Сломай ногу!» – с ответом «Сломай обе!»
Гулкая тишина. Занавес распахнулся. Ночной дозор с топотом двинул на сцену. Первая реплика:
– Кто здесь?
Внутри Лотто словно тумблер щелкнул, его «я» отступило на задний план. Снизошла легкость.
Скорлупа, оболочка Лотто наблюдала из-за кулис, как он, Гамлет, пошел на дело прогулочным шагом.
Он вернулся в себя на поклонах, дублет насквозь мокрый от пота, а шум в публике, множась, взлетел до последнего в его честь шквала аплодисментов. В первом ряду профессор Мургатройд, с двух сторон подпираемый возлюбленным и любовником возлюбленного, вскрикивал голоском викторианского синего чулка: «Браво, браво!» Охапка цветов. Девицы, с которыми он переспал, одна за другой обнимают его, на языке жирный вкус блеска для губ. Кто это? Бриджет с мордочкой спаниеля, о боже, жмется к нему. Они переспали, сколько, два раза? [Восемь.] Он слышал, что она называет себя его девушкой, бедняжка. «Увидимся на вечеринке, Бридж», – мягко говорит он, высвобождаясь. Зрители растворяются под дождем. Офелия стискивает ему руку. Увидимся позже? В те два раза за репетиции, когда они сходились в туалете для инвалидов, это было неплохо. Конечно, увидимся, бормочет он, и она уносит тело своей безумной.
Он закрылся в кабинке туалета. Здание опустело, парадные двери заперли. Когда он вышел, в раздевалках было подметено. Всюду тьма. Он медленно снимал грим, разглядывая себя в тусклом свете. Снова нанес тональный крем, заполняя рытвины шрамов, и оставил подводку для глаз, довольный тем, как она оттеняет их синеву. Было лестно пребывать одному в этом священном месте. В любом другом остаться с самим собой ненавистно.
Но сегодня вечером, в последний миг торжества его юности, все, чем он жил до сих пор, переполнило его до краев: в жарких испарениях потерянная Флорида, боль в том месте, где был отец, пылкая вера матери в его предназначение, Бог, что неотрывно на него смотрит, прекрасные тела, в которых он забывался на время. Он дал всему этому волнами себя окатить, а потом сквозь темный дождь направился на актерскую вечеринку, слышную за полмили, и вошел под аплодисменты, и кто-то сунул в руку ему кружку пива. Минуту или вечность спустя он стоял на подоконнике, а мир позади него озарялся вспышками молний. Силуэты деревьев обращались в искристые нейроны. Кампус то покрывался горячей золой, то остывал в пепел.
Людское сборище у ног Лотто клокотало и пузырилось писком моды начала девяностых: голые пупки, пирсинг и бейсболки, скрывающие залысины, в излучении ламп «черного света» зубы белей, коричневая помада с коричневой подводкой, ушные каффы, байкерские ботинки, трусы-боксеры наружу, вихляем задом, хип-хоп-трио «Солт-н-пепа», перхоть отливает зеленым, веет дезодорантом, сверкают блестки на скулах.
Каким-то образом он оказался с пустой бутылкой из-под воды, которую кто-то эластичным бинтом примотал ему к голове. Раздались крики: «Вопим хвалу Водяному принцу!» Ой, это плохо. Значит, узнали, откуда у него деньги. Он скрывал это, господи боже мой, обходился потрепанным «вольво». Оказалось, он уже без рубашки, чтобы мускулы лучше видать. Осознав, как это смотрится из разных углов, нанесенный бутылкой урон он восполнил воинственной бодростью. Выпятил грудь. Теперь у него бутылка джина в руке, и под крики: «Лотто! Лотто! Лотто!», он подносит ее к губам и делает долгий глоток, который к утру залепит ему паяльным флюсом весь мозг, сделает мысли невнятными, не отодрать одну от другой.
– Миру скоро конец! – взревел он. – Чем не повод потрахаться?
Одобрительные крики танцующих у него под ногами.
Он воздел руки.
[Роковой взгляд вверх.]
В дверном проеме стояла она.
Высокая, судя по силуэту; свет сзади, бликуя от мокрых волос окутывал ее ореолом; за ней потоком стекали по лестнице тела. Смотрела она на него, хотя лица было не разглядеть.
Но вот повернула голову, и он пол-лица увидел, сильное и яркое впечатление.
Высокие скулы, пухлые губы. Крошечное ушко. С нее капало оттого, что она шла под дождем. Первым делом она полюбилась ему тем, что посреди всего этого грохота и танцев оглушила его тишиной.
Он уже встречал ее раньше, он знал, кто она. Матильда… как ее там. Красота, подобная ее красоте, бросала отсвет даже на стены кампуса, фосфоресцировала на всем, к чему она прикасалась. Настолько она была выше Лотто – настолько выше возьми кого хочешь в колледже, – что стала легендой. Друзей у нее не было. Она ледяная. На выходные ездила в город, подрабатывала моделью, отсюда модные шмотки. Всяких сборищ чуралась. Этакая олимпийская богиня на пьедестале. Да, Йодер ее фамилия, Матильда Йодер. Но сегодняшний триумф Лотто снарядил его к этой встрече. Она пришла сюда для него.
Позади, в громыхании ливня или, может, внутри него – зашипело и припекло. Он спрыгнул в круговорот тел, по пути заехал коленом в глаз Сэмюэлу, сбил с ног какую-то бедную девчушку. Выплыл из толпы, пересек зал, направляясь к Матильде. В носках она была шести футов ростом. На каблуках ее глаза достигали уровня его губ. Снизу вверх она глянула на него невозмутимо спокойно. Ему уже нравился смех, который она таила в себе, смех, разглядеть который было только ему по силам.
Он вполне осязал драматизм этой сцены. Как и то, сколько народу видит, как здорово они с Матильдой смотрятся вместе.
В один миг он обновился. Прошлое исчезло. Он пал на колени, схватил Матильду за руки, прижал их к своему сердцу и выкрикнул: «Выходи за меня!»
Она откинула голову, обнажив белую змеиную шею, рассмеялась и что-то сказала, за шумом не различить. В шевелении дивных губ Лотто прочел: «Да». Он потом десятки раз про это рассказывал, вызывая духов той ночи, невидимый ультрафиолет ламп «черного света», накатившую мгновенно любовь. Друзья, скопившиеся за годы, внимали, к нему склонясь, тайные романтики улыбались. Матильда через стол непроницаемо на него смотрела. Каждый раз, излагая эту историю, он повторял, что она сказала: «Конечно».
Конечно. Да. Одна дверь за ним закрылась. Другая, лучшая, распахнулась.
1
По Фаренгейту. По Цельсию – 23 градуса.
2
В металлических баллончиках со взбитыми сливками содержится закись азота, ингаляционный наркотик.
3
Имеется в виду знаменитая ленд-арт-инсталляция американского художника Роберта Смитсона (1938–1973), созданная в 1970 г. на северном берегу Большого Соленого озера в штате Юта, США.
4
У. Шекспир «Король Лир», акт V, явл. III. Перевод Б. Пастернака.
5
У. Шекспир «Гамлет», акт I, явл. I. Перевод М. Лозинского.