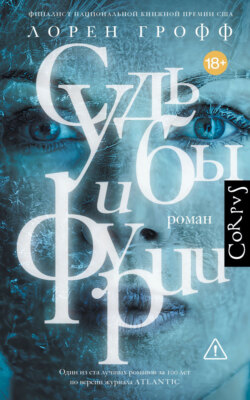Читать книгу Судьбы и фурии - Лорен Грофф - Страница 5
Судьбы
3
ОглавлениеВопрос видения. В конце концов, с точки зрения Солнца человечество – это абстракция, допущение. Может быть, а может не быть. Земля – всего лишь вращающаяся точка. Если ближе, то город – сгусток огоньков между других сгустков; еще ближе, и здания засветились, постепенно отлепляясь одно от другого. Ниже к окнам увидишь тела, все похожие, не различить. Только в фокусе выявятся детали: родинка у ноздри, зуб, прилипший во сне к пересохшей нижней губе, кожа подмышки, похожая на пергамент.
Лотто долил сливки в кофе и разбудил жену. Из магнитофона звучит песенка, яйца поджарены, посуда вымыта, пол подметен. Пиво и лед доставлены, закуска нарезана. К середине дня все наготове.
– Пока никого нет. Мы могли бы… – шепнул Лотто ей на ухо.
Раздвинул длинные волосы на загривке, поцеловал в выпирающий позвонок. Эта шея принадлежит ему, принадлежит жене, которая принадлежит ему, сияет под его руками.
Любовь, зародившаяся в одном теле так мощно, щедро простерла себя на все, что вокруг. Они вместе уже пять недель. Секса сначала не было, Матильда его динамила. Потом, когда в выходные они выбрались на природу, случился опьяняющий первый раз, а утром он вышел пописать и увидел, что член в крови от форштевня и до кормы, и понял, что она была девственна – потому-то и не хотела с ним спать. Он обернулся к ней и увидел ее в новом свете, как она окунается личиком в холодный поток, умывается и выныривает, раскрасневшаяся, блестящая от воды, и с тех пор знал, что чище ее человека он не встречал, а ведь грезил о чистоте.
Он знал, что они поженятся, закончат учебу, уедут в Нью-Йорк и будут счастливы вместе. И они были счастливы, хотя все еще плоховато знакомы. Вот вчера он обнаружил, что у нее аллергия на суши. А сегодня утром, разговаривая с теткой по телефону, смотрел, как Матильда вытирается после душа, и его как ударило, что у нее вообще нет семьи. От того малого, что она рассказывала о детстве, попахивало насилием. Он живо представил себе бедноту, обшарпанный трейлер, вреднющего – она намекала, что и похуже, – дядю. Самым ярким воспоминанием о детстве был телевизор, который никогда не выключался. Школа как спасение, стипендия, подработка манекенщицей в свободное время. Они стали срастаться, обмениваясь историями. Как, когда она была маленькой, они жили за городом, в полном отрыве от всех, и ей было так одиноко, что она позволила пиявке целую неделю жить у себя на бедре. Как однажды в поезде тип, похожий на горгулью, разглядел в ней данные для работы моделью. Должно быть, понадобилась огромная сила воли, чтобы оторваться от своего прошлого, темного и печального. Теперь у нее был только он. Его трогало и умиляло, что он стал для нее всем. Он и не просил большего, чем то, что она с охотой ему давала.
За окном исходил жарой нью-йоркский июнь. Скоро пойдет гость, десятки друзей по колледжу нагрянут к ним на новоселье, согреть дом душевным теплом, хотя он и так опален летом. Они пока что надежно внутри.
– Уже шесть. Мы пригласили их на половину шестого. Нет, нельзя, – сказала Матильда.
Но он, не слушая, запустил руку под ее юбку павлинью, как у Саломеи Бердслея, и под резинку хлопковых трусиков, между ног мокрых. Они женаты. У него на это права. Она ткнулась в него задницей, а ладони уперла в стену по сторонам высокого дешевого зеркала, составлявшего, наряду с матрасом и зиккуратом из чемоданов, в которых они держали одежду, всю обстановку спальни. Световой тигр, проникнув сквозь веер фрамуги, рыскал по чистому сосновому полу.
Спустив ей трусики до колен, Лотто сказал: «Мы быстро». Дискуссию на этом закрыли. Он следил в зеркале, как она прикрывает глаза, как румянец заливает ей щеки, губы, впадинку в основании шеи. Задняя сторона ее бедер, влажная, дрожала, билась о его колени.
Лотто переполняло довольство. Чем? Всем. Квартирой в Вест-Виллидж, с прекрасным садом, за которым ухаживает та старая карга с верхнего этажа, англичанка, чья мощные бедра торчат в окне и сейчас между тигровых лилий. Квартира с одной спальней, но зато спальня огромная; полуподвальная, но зато арендная плата фиксированная, домовладелец не вправе ее поднять. Из кухни и ванной во всей красе видны идущие мимо ноги, с мозолями и татуировками на лодыжках; но зато здесь, внизу, есть надежда, что под защитой слоев земли и бетона не достанут ни бомбы, ни ураганы.
После стольких бездомных лет он уже прирос к этому месту, прикипел к этой жене с ее точеным лицом, грустными кошачьими глазами, веснушками и долгим, худым телом, подстрекающим нарушать запреты. Каких ужасных вещей наговорила ему мать, когда он позвонил, чтобы сообщить, что женился. Жуть. И сейчас голова кругом, как вспомнишь.
Но сегодня даже город выложен, как блюдо на дегустации: новехонькие девяностые жарко сверкают; девушки носят блестки на скулах; одежду прошивают серебряной нитью; все сулит секс и процветание. Лотто уплетал это за милую душу. Все сплошь было прекрасно и изобильно. Он – Ланселот Саттеруайт. В нем самом солнце сияло. Эту всеохватную роскошь он сейчас и имел.
Его собственное лицо смотрело на него из-за раскрасневшейся и запыхавшейся Матильды. Его жена, пойманный кролик. Ее пульс, ее ритм. Руки у нее подогнулись, лицо побледнело, она врезалась в зеркало – оно треснуло, и волосяной тонкости трещины раскололи их головы на неровные доли.
Дверной звонок издал долгую медленную трель.
– Минутку! – выкрикнул Лотто.
В коридоре за дверью Чолли поудобней перехватил здоровенного латунного Будду, которого выудил из мусорного контейнера по дороге сюда, и сказал:
– На сто баксов спорю, что они трахаются.
– Вот же ты свинья, – отозвалась Даника.
После колледжа она здорово похудела. Прям пучок палочек, завернутых в марлю. Она уже изготовилась известить Лотто с Матильдой, как только они откроют дверь – если, черт побери, они когда-нибудь это сделают, – что совсем не с Чолли сюда пришла, что они случайно столкнулись на тротуаре у входа, что будь она проклята, если ее когда-нибудь застигнут там, где он тоже присутствует, этот тролль-коротышка. Да у него очки замотаны скотчем по переносице! А мерзкий рот, как вороний клюв, изрыгает одни похабства. Да она терпеть не может его еще с тех пор, как он приперся в общагу к Лотто и торчал там у него месяцами, так что все стали думать, что он учится в Вассаре, хотя ничего подобного, за душой у него только средняя школа, просто Лотто знаком с ним с детства. Но теперь она еще сильней его ненавидит. Жирный паяц.
– От тебя помойкой разит, – сказала она.
– Ныряем в мусорные контейнеры, – объяснил он, победно приподняв Будду. – А что, на их месте я бы трахался постоянно. Матильда на вид фантом, морок, но я бы и ее трахнул. А Лотто, тот успел уже натрахаться вдосталь. Он, можно сказать, эксперт.
– Скажи ведь? Он жутко распутный, – подхватила Даника. – И все ему сходит с рук! Это из-за того, как он на тебя смотрит. К примеру, был бы он на самом деле красавцем, он не был бы таким смертоносным, но проведи с ним пять минут в комнате, и все, чего ты хочешь, – это раздеться. Тут еще важно то, что он парень. Если девушка возьмется распутничать с той же силой, как он, то в общем мнении она станет типа больна. Заразна. Неприкасаема. Но парень вправе совать свою штуку в мильон мест, и всякий скажет, что он просто делает то, что парням полагается. – Даника быстро нажимала на кнопку звонка, снова и снова, но тут понизила голос. – В любом случае, я даю этому браку год. В самом деле, послушай, кто вообще женится в двадцать два? Ну, шахтеры. Или там фермеры. Но не мы. Еще месяцев восемь, и Лотто начнет трахаться с той зловещей старухой, что над ними живет. Или с какой-нибудь режиссершей климактерической, которая даст ему сыграть Лира. Да вообще со всеми, кто попадет на глаза. А Матильда быстренько получит развод и выйдет замуж за кого-нибудь вроде трансильванского принца.
Они рассмеялись. Теперь Даника звонила в дверь, набирая азбукой Морзе «SOS».
– А что, я бы принял это пари, – сказал Чолли. – Лотто не станет мухлевать. Я знаю его с четырнадцати лет. Фанаберии в нем до фига, но он верный.
– Мильон баксов, – сказала Даника.
Чолли поставил Будду на пол, и они пожали друг другу руки.
Тут дверь распахнулась, и на пороге возник глянцевитый Лотто с каплями пота на висках. В конце пустой гостиной гости успели заметить дольку Матильды, которая закрывала за собой дверь ванной, голубая бабочка морфо, складывающая свои крылья. Чмокая Лотто, Данике стоило трудов не лизнуть его в щеку. Соленый, господи, вкусный, как мягкий горячий крендель. У нее всегда коленки подкашивались с ним рядом.
– Добро пожаловать, сто тысяч раз. И смеяться, и плакать я готов, а на душе и тяжко, и легко. Привет вам всем![6] – продекламировал Лотто.
Вот ведь милый! Но надо же, как мало у них всего. Книжные полки из пенобетона и фанеры, диван, что стоял в общей комнате колледжа, шаткий стол со стульями, пригодными разве что во внутренний дворик поставить. И притом тут все полнилось счастьем. Данику уколола зависть.
– Обстановка спартанская, – подытожил Чолли и воздвиг гигантского Будду на каминную полку, откуда тот, озирая белую комнату, рассиялся улыбкой.
Протерев Будде живот, Чолли направился на кухню, где, как птица у поилки, пригоршнями воды и жидкостью для мытья посуды попробовал смыть с себя дух помойки.
Оттуда он наблюдал за прибытием всех этих кривляк, притворщиков и препстеров, примодненных мажоров, с кем он вынужден тягаться с тех пор, как Лотто отправили сначала в интернат, а затем в колледж; друг взял его под крыло, когда у Чолли никого не осталось. Этот гнусный тип Сэмюэл, который прикидывается, что он лучший друг Лотто. Фальшак. Сколько бы Чолли ни оскорблял его, Сэмюэл и ухом не поведет: он, Чолли, слишком низок, слишком слизняк, чтобы Сэмюэла задели его слова.
Лотто был выше всех, излучал лазерные лучи радости и тепла, и все, кто входил, жмурились, ослепленные его улыбкой. Приносили в дар хлорофитум-паучник в горшках, упаковки пива, книги, бутылки вина. Яппи в зародыше, подражающие повадкам родителей. Через двадцать лет у всех будут загородные дома, дети с претенциозными литературными именами, уроки тенниса, уродливые машины и интрижки с горячими молодыми стажерками. Ураганы добывания привилегий, вот они кто, суета, шум и разор, а в сердцах пустота, шаром покати.
Через двадцать лет, объявил про себя Чолли, вы все будете подо мной, – и фыркнул, клокоча гневом.
Матильда стояла у холодильника, хмуро глядя на лужу у ног Чолли и мокрые пятна на его шортах хаки. На подбородке у нее сквозь замазку просвечивала малиновая потертость.
– Привет тебе, Зануда, – сказал он.
– Привет, Брюзга, – сказала она.
– И этим ртом ты целуешь моего друга? – вопросил он, но она только холодильник открыла, достала плошку с хумусом и две банки пива, одну из которых протянула ему.
Он слышал ее запах, смесь розмарина, исходящего от шелковистых светлых волос, и мыла «Айвори» с – не перепутаешь – привкусом секса. Ах вот, значит, как. Он был прав.
– Иди общайся, – сказала она, отходя. – И смотри не вынуди никого дать тебе в нос, Чолли.
– Чтобы я да рискнул погубить это совершенство? – ткнул он себе в лицо. – Ни за что!
Словно рыбы в аквариуме, в жарком воздухе перемещались тела. Группка девушек в спальне рассматривала поросль ирисов в окне напротив этажом выше.
– Нет, как они смогли себе это позволить? – пробормотала Натали.
Она нервничала, собираясь сюда – Лотто с Матильдой такие шикарные! – и пропустила несколько рюмок, прежде чем выйти из дома. В общем, была уже изрядно пьяна.
– Тут арендная плата фиксированная, – сказала девушка в кожаной мини-юбке, оглядываясь в поисках кого-нибудь, кто мог бы ее спасти.
Остальные растаяли, когда Натали к ним присоединилась; она была из тех, с кем годилось поболтать навеселе, когда они были в колледже, но теперь, когда вышли в реальный мир, она только и делает, что плачется на безденежье. Это утомляет. Они все бедны, так и предполагалось, что после колледжа они будут бедны, но потом ведь это пройдет. Мини-юбка схватилась за проходившую мимо Веснушчатую. Все три, были времена, спали с Лотто. Каждая втайне верила, что нравилась ему больше других.
– Это да, – сказала Натали. – Но у Матильды даже нет работы. Я бы еще поняла, как они платят, если бы она продолжила манекенщицей, но теперь у нее есть муж, и она перестала, бла-бла-бла, вы меня понимаете. Я вот не перестала бы работать моделью, если бы меня кто-нибудь взял. А Лотто – актер, и хотя мы все от него в восторге, не похоже, что его позовут сниматься в фильме с Томом Крузом или вроде того. Я про эту его ужасную кожу. Без обид! Я знаю, он бесподобный, но актеру трудно сводить концы с концами, даже если он состоит в профсоюзе, а Лотто ведь не состоит!
Две другие посмотрели на Натали как бы издалека, увидели ее выпученные глаза, невыщипанные усы, вздохнули.
– Ты разве не знаешь? – сказала Мини-юбка. – Лотто – наследник огроменного состояния. Вода в бутылках. «Хэмлин-Спрингс», слышала? Это они. Его мамаше, типа, принадлежит вся Флорида. Она миллиардерша. Да они на мелочь в кармане могли бы в Верхнем Ист-Сайде купить квартиру с тремя спальнями и швейцаром.
– В самом деле, в этом есть даже смирение, в том, как они здесь живут, – резюмировала Веснушка. – Лотто, он вообще лучший.
– Но Матильда, с другой стороны, – сказала Натали, понизив голос. Остальные сделали шаг вперед и склонились, чтобы ее расслышать. Причащение сплетниц, приобщение к святым тайнам. – Матильда – это энигма, завернутая в загадку, завернутую в бекон. У нее даже в колледже не водилось друзей. А ведь в колледже у всех есть друзья. И откуда она родом? Никто понятия не имеет.
– Точно, – сказала Мини-юбка. – Она тихая и прохладная, прямо снежная королева. А Лотто – он шумный. Теплый, любвеобильный. Они антиподы.
– Честно скажу, я этого не понимаю, – сказала Веснушка.
– Ну, первый же брак, – сказала Мини-юбка.
– И угадайте, кто будет готовить ему запеканку, когда все развалится! – сказала Веснушка.
Они рассмеялись.
Что ж, подумала Натали. Тогда все ясно. И квартира, и то, как Лотто с Матильдой смеют следовать своим курсом. И та смелость, с которой они провозгласили себя творческими людьми, и завышенная самооценка, и нарциссизм. Натали сама когда-то хотела стать скульптором, и у нее это чертовски хорошо получалось. Она сварила из нержавейки девятифутовую спираль ДНК, которую поставили у естественнонаучного класса в ее школе. Мечтала о гигантских движущихся конструкциях, таких, как гироскопы и вертушки, которые вращались бы только от ветра. Но родители были правы, настаивая, что нужен стабильный заработок. Она пошла на экономику и испанский в Вассаре, что вроде более чем резонно, и все равно вынуждена до конца стажировки снимать пропахшую нафталином кладовку в Квинсе. У единственных туфель на каблуке протерлась подошва, каждый вечер она заделывает дыру суперклеем. Мутотень, а не жизнь. Совсем не то, что сулили рекламные брошюрки, которые в родном пригороде она, как порно, листала на сон грядущий, выбирая учебное заведение: давай к нам в Вассар, зазывали смеющиеся, красивые детки, обеспечишь себе роскошную жизнь! Вместо этого – грязная квартирка и дрянное пиво, вот и вся роскошь, что светит ей впереди.
Через дверь в гостиную она видела, как Лотто хохочет над какой-то шуткой Сэмюэла Харриса, сынка самого сомнительного из сенаторов округа Колумбия. Сенатор был из тех мужчин, кто, потратив всю отпущенную ему эмпатию на брак с кем-то понеожиданней, посвятил свою деятельность тому, чтобы никто другой не имел возможности сделать собственный выбор. Он выступал против иммиграции, против равноправия женщин, против геев, и это было только начало. Сэмюэл, надо отдать ему должное, основал движение «Либералы кампуса», но они с Лотто оба переняли врожденную аристократическую чванливость у противной мамаши Сэмюэла. Та однажды прямо с грязью ее смешала, когда Натали за обедом высморкалась в салфетку, они как раз тогда с Сэмюэлом недолго встречались. Впрочем, у Лотто, что ни говори, хватает обаяния внушить тебе, что ты интересна. А вот Сэмюэл, при нем ты просто дерьмо дерьмом. Руки зудят снять ботинок мартинс и врезать обоим по их глупым богатеньким физиям.
Натали тяжко вздохнула.
– Бутилирование воды вредит окружающей среде, – сказала она, но никто этого не услышал, все ушли утешать бедняжку Бриджет, которая рыдала в углу, все еще страдая по Лотто.
Бриджет в сравнение не шла рядом с Матильдой – высокой, поджарой, блондинистой. Натали нахмурилась на свое отражение в треснутом зеркале, видя там лишь осколки девы с горько поджатым ртом.
Лотто витал и парил. Кто-то включил компакт-диск группы «Ан вог», для смеху, конечно, но ему правда нравились голоса девчонок. В квартире было адски жарко, послеполуденное солнце заглядывало внутрь, как вуайерист. Но все ерунда по сравнению с тем, что его друзья снова вместе. Застыв на минутку в дверях с банкой пива, он огляделся, что вокруг происходит.
Натали делала стойку на руках на пивном бочонке, парни из соседней кофейни придерживали ее за лодыжки, кофта у нее съехала, обнажив мучнистый живот. Сэмюэл, с голубыми подглазьями, распинался о том, что на прошлой неделе он целые девяносто часов как проклятый впахивал в своем инвестиционном банке. Хорошенькая Сюзанна засовывала, чтобы остыть, в морозильную камеру личико, сияющее от того, что ей досталось сняться в рекламе шампуня. Лотто пригасил свою зависть. Играть она не умеет, но зато у нее влажный взгляд олененка. Они переспали разок на первом курсе. На вкус она была как свежие сливки. В другом углу Эрни из команды гребцов, недоучка-миксолог, виски в абрикосовых потеках лосьона для загара, щеки красные от стараний, смешивал коктейль «розовая белочка».
За спиной Лотто голос, которого он не распознал, произнес:
– Запретное слово в загадке о шахматах?
И кто-то другой, помолчав, спросил:
– Шахматы?
И тогда первый сказал:
– А, так ты помнишь наш семинар по Борхесу на первом курсе!
И Лотто рассмеялся вслух от нежности к этим выпендрежникам.
Вот что, они станут устраивать такое сборище год за годом, решил он. Будет у них такая ежегодная июньская попойка, пока они не размножатся до того, что придется арендовать самолетный ангар, чтобы вместить всех, бражничать, голосить, до поздней ночи плясать. Бумажные фонарики, вареные креветки, блюграсс-бэнд кого-то из чьих-то деток. Когда семья отторгает тебя, как это сделали с Лотто, создаешь свою собственную семью. Эта потная многолюдная свалка – то, чего он хочет от жизни; это вершина. Господи, вот же кайф!
Но что там? В окно, выходившее в сад, влетала струя воды: соседка, старая леди, вопя, направила сопло шланга в их буйство. Ее вопли едва-едва доносились поверх музыки и общего ора. Девчонки визжали, промокшие летние платья облепили их гладкую кожу. Нежные. Влажные. Так и слопал бы всех. Он представил себя в куче рук, ног и грудей, представил красный рот, приоткрытый, скользящий по его… но нет, нет, так нельзя. Он женат. И улыбнулся жене, которая наискосок через комнату торопилась к толстой старухе, кричавшей в окно:
– Дикари! Ведите себя прилично! Прекратите шуметь! Дикари!
Матильда заговорила с ней умиротворяющим тоном, и оконные ручки были повернуты, так что окна в сад заперли, а окна на улицу распахнули настежь, и сделалось даже чуток прохладней, ведь та сторона дома находилась в тени. Завязались уже затяжные поцелуи и похабные танцы, хотя было еще светло, солнце просачивалось внутрь. Шума прибавилось, голоса стали слышней.
– …на пороге революции. Объединение Восточной и Западной Германий вызовет мощный откат к капитализму.
– Элен Сиксу сексуальна. Симона де Бовуар. Сьюзан Сонтаг.
– Феминаци, ipso facto, в силу самого факта, не могут быть сексуальны.
– …это фундаментальная особенность человека – быть одиноким.
– Циник! Только ты можешь выдать такое в разгар оргии.
Сердце Лотто шевельнулось в груди лягушкой; взмахивая на ходу подолом блестящей синей юбки, к нему приближалась Матильда. Ее волосы, заплетенные в косу, перекинуты на левую грудь, она – средоточие лучшего, что есть в этом мире. Его лазоревый лев встал на дыбы. Он весь к ней потянулся, но она развернула его ко входу.
Дверь была настежь. На пороге стоял очень маленький человек. Сюрприз! Его младшая сестренка Рэйчел, косички и комбинезон, с ужасом юной баптистки взирала на сцены пьянства, разврата, обжорства и сигаретокурения. Ей было всего восемь. На шее у нее висел жетон несовершеннолетнего, путешествующего без сопровождения. За ней высились, хмурясь на происходящее в комнате, двое, средних лет пара в одинаковых туристических ботинках.
– Рэйчел! – вскричал он, поднял ее за лямки рюкзака и внес внутрь.
Гости расступились, разорвав объятья и поцелуи, по крайней мере, в этой комнате; что там в спальне, кто ж может сказать. Матильда отцепила Рэйчел от Лотто. Прежде они встречались только один раз, когда за несколько недель до того тетя Салли привезла девочку на их выпускной. Рэйчел сейчас потрогала кулон с изумрудом, который Матильда, порывисто с себя сняв, на том праздничном ужине ей подарила.
– Как ты здесь оказалась? – перекрикивая шум, спросили Лотто с Матильдой.
Девочка отстранилась еле заметно от Матильды, от которой попахивало. Антиперспиранты, утверждала Матильда, приводят к альцгеймеру, а от духов у нее крапивница. В глазах Рэйчел стояли слезы:
– Как, Лотто? Ты разве меня не пригласил?
Она ничего не сказала о том, что три часа прождала его в аэропорту, и о добрых, но суровых туристах, которые увидели ее плачущей и предложили подвезти. И Лотто наконец вспомнил, что должен был ее встретить, и день померк, потому что он забыл, что его младшая сестренка приезжает на выходные, что он уговорился об этом с тетей Салли по телефону – и забыл, едва положил трубку, даже до другой комнаты не успел дойти, чтобы сообщить об этом Матильде, как это выпало у него из головы. Стыд волной поднялся в груди, и он представил себе ужас и отчаяние девочки, когда она одиноко ждала его в зоне выдачи багажа. О боже! Что, если б она попала в руки какому-то негодяю? Что, если бы доверилась кому-то ужасному, а не этим обыкновенным, с их банданами и крепежными карабинами, людям, которые сейчас посмеиваются у бочонка с пивом, вспоминая разнузданные вечеринки своей молодости. Если бы доверилась извращенцу? Вспыхнули картинки в мозгу: невольничий рынок, белые рабыни, Рэйчел на коленях моет пол в чьей-то кухне, ее держат в ящике под кроватью. Похоже, наревелась уже, вон глазки красные. Натерпелась страху, весь этот путь из аэропорта с чужими людьми. Хорошо бы она не рассказала об этом Мувве. Мать тогда разочаруется в нем еще больше, хотя куда ж больше! То, что она наговорила ему сразу после женитьбы, все еще торчало занозой. Он такое фуфло…
Но Рэйчел изо всех сил обнимала его за талию. Ярость на лице Матильды тоже рассеялась. Нет, он не заслужил этих женщин, которые все сглаживают, все исправляют. [Пожалуй, что так.] Они посовещались шепотом, и решили: гости пусть веселятся без них, а они отведут Рэйчел поужинать в закусочную на углу. Уложат спать в девять, запрут дверь спальни и выключат музыку; и все выходные посвятят девочке, искупят вину.
Поздний завтрак, кино и попкорн, поездка на Пятую авеню в лучший магазин игрушек, где можно потанцевать на клавишах напольного пианино.
Рэйчел поставила свои вещи в шкаф, в котором хранились всякие штуки для кемпинга и дождевики. Когда она закончила с этим и повернулась, с ней тут же заговорил невысокий смуглый мужчина – Сэмюэл? – на вид ужасно замотанный, и стал рассказывать о своей чрезвычайно важной работе где-то в банке или вроде того. Как будто это так сложно – обналичивать чеки и давать сдачу. Даже Рэйчел это умеет, а ведь она только в третьем классе.
Она украдкой сунула брату в задний карман конверт со своим подарком на новоселье. Представила с удовольствием, какое у него будет лицо, когда он конверт откроет: за шесть месяцев из денег, которые ей выдавали на пустяки, она скопила почти две тысячи долларов. Безумные деньги для восьмилетней девочки. На что ей их тратить? Мувва разозлится, если узнает, но у Рэйчел так болит душа за бедных Лотто с Матильдой, не поверишь, что их лишили поддержки и денежного содержания за то, что они поженились. Как будто деньги могли их остановить: Лотто с Матильдой рождены для того, чтобы прижиматься друг к другу, как ложки в буфетном ящике. А потом, им нужны наличные. Только взглянуть на эту тесную темную нору, да почти без мебели. Никогда еще не видела она такого пустого жилища. Даже телевизора у них нет, даже чайника нет или коврика. Они почти нищие! Она снова втиснулась между Матильдой и старшим братом, носом воткнувшись в Лотто, потому что от него пахло теплым лосьоном, а от Матильды – ну, рядом с той было как в школьном спортзале, где собирались девочки-скауты. Нечем дышать.
Страх, охвативший Рэйчел в аэропорту, отстал наконец, смытый приливом любви. Люди здесь такие интересные, такие пьяные. Ее поразило, что они то и дело поминают то какую-то мать, то черта: Антуанетта внушила своим детям, что ругательства – это для скудоумных. Лотто никогда не ругается; они с Матильдой правильные взрослые. Она будет такой, как они, будет жить нравственно, чисто, в любви. Приподняв голову, она огляделась: кружение тел в лучах вечернего солнца, июньская духота, музычка, выпивон. Этого ей и хотелось от жизни – красоты, дружбы, счастья.
Восемь вечера. Солнце клонилось к закату.
Покой. Нега. Конец осени. Холодок в воздухе как предчувствие. Сюзанна вошла через дверь, ведущую в сад. В гостиной новый джутовый ковер, тихо. Никого, только Матильда в кухонном отсеке поливает салатной заправкой листья латука.
– Ты слышала? – начала Сюзанна, но не договорила, смолкла, когда Матильда к ней обернулась.
Прежде Сюзанна считала, что войти в квартиру, свежевыкрашенную в ярко-желтый цвет, все равно что оказаться на ослепительном солнце. Но теперь этот цвет лестно оттенял коричные веснушки Матильды. Та сделала асимметричную стрижку: светлые волосы справа короткие, по челюсть, а слева до воротника, что подчеркивало ее высокие скулы. Шевельнулось влечение. Странно. Все это время Матильда казалась невзрачной, бледной тенью своего яркого мужа, но теперь щелкнуло, пара сошлась. Матильда, в самом деле, ошеломляла.
– Слышала ли я что? – спросила Матильда.
– Ох, Матильда. Твои волосы, – сказала Сюзанна, – прелесть.
Матильда потрогала их и сказала:
– Спасибо. Так что я должна была слышать?
– Ах да, – сказала Сюзанна и взяла две бутылки вина, на которые подбородком указала Матильда. И продолжила, следуя за ней в коридор и вверх по черной лестнице: – Помнишь Кристину с нашего курса? Пела в той группе а капелла, называлось «Фигуры», помнишь? Черные волосы и, ну да, фигуристая. Я думаю, они с Лотто…
Сюзанна споткнулась про себя «вот же дура!», а Матильда остановилась на ступеньке, а потом махнула рукой, как бы говоря: «Ну да, и Лотто, и вы, все трахались, как макаки» – что, Сюзанне пришлось признать, была чистая правда, – и они поднялись в сад, где застыли на миг, пораженные осенью. На траве были разостланы простыни, купленные Лотто и Матильдой на барахолке, посередине расставлено угощение в складчину, а вокруг тихо сидели друзья, прикрыв глаза, подставив лица последнему теплу мягкого осеннего солнца, попивали бельгийское пиво или охлажденное белое вино, выжидали, кто первым протянет руку за куском.
Матильда поставила салатницу и сказала: «Ешьте, детки». Лотто снизу вверх ей улыбнулся и взял одну из мини-спанакопит, выложенных теплой горкой. Остальные, человек двенадцать примерно, последовали его примеру, и разговор потек дальше.
Сюзанна, поднявшись на цыпочки, прошептала Матильде на ухо:
– Кристина. Она покончила с собой. Повесилась в ванной. Ни с того ни с сего, только вчера. Никто и не знал, что она несчастна. У нее был парень и все такое, и работа в экологическом «Сьерра-клубе», и квартира в хорошем районе Гарлема. Какого черта…
Матильда застыла, и неизменная ее полуулыбка сползла с лица.
Встав на колени, Сюзанна взяла кусок арбуза и принялась резать его помельче: она больше не ела настоящую пищу, потому что у нее была новая роль на телевидении, о которой в присутствии Лотто она говорить стеснялась. Во-первых, это был не «Гамлет», в котором он так блестяще сыграл в их последний семестр в колледже. Всего лишь роль подростка в мыльной опере, и она знала, что продалась. И все ж это больше того, что Лотто делал с тех пор, как они закончили колледж. Он был во втором составе нескольких далеко не бродвейских постановок и сыграл крошечную роль в Актерском театре Луисвилла. Так продолжалось полтора года. Вспомнилось, каким Лотто был под занавес «Гамлета», кланялся в пропотевшем костюме, а сама она упоенно кричала «Браво!» из зала, уступив роль Офелии девке с огромными сиськами, которые та оголила в сцене у пруда. Вот ведь шлюха. Сюзанна вонзила зубы в арбуз и сглотнула чувство своего торжества. Жалея Лотто, она любила его сильней.
Матильда, не участвуя в разговоре, вздрогнула и плотней закуталась в кардиган. Бордовый лист упал с японского клена, приземлившись прямо в пюре из шпината и артишоков. В тени под деревом было прохладно. Скоро наступит зима, долгая, холодная, белая. Она сотрет, соскоблит эту ночь, этот сад. Матильда включила рождественскую гирлянду, которой они обмотали ветки. Дерево заискрилось, превратившись в дендрит, отросток нейрона. Она уселась позади мужа, потому что хотелось спрятаться, а спина у него такая красивая, широкая и мускулистая, уткнулась в нее лицом, и ей стало полегче. Она вслушивалась в его заглушенный грудной клеткой голос, в приглаженную южным акцентом речь.
– Сидят два старика на крылечке на морском ветерке, – говорил Лотто. Ага, значит, анекдот. – Тут к ним подходит старый охотничий пес, кобель, садится и начинает вылизывать свои причиндалы. Чавкает, сопит, и видно, что ему до чертиков нравится его маленькая розовая пиписька. Тюбик губной помады, вывинченный во всю длину. И вот один из стариков подмигивает своему другу и говорит: «Эх, хотел бы я тоже!» А второй ему отвечает: «Да ты что! Он же тебя куснет!»
Все рассмеялись, но не столько над анекдотом, сколько над тем, с каким удовольствием Лотто его исполнил. Матильда знала, это был любимый анекдот его отца, Гавейн посмеивался в ладошку и краснел каждый раз, когда Лотто его рассказывал. Тепло, через изумрудную футболку поло передавшееся от мужа, понемногу рассеяло глыбу страха. Кристина жила на том же этаже, где и она первокурсницей. Как-то раз Матильда слышала, как она плачет в душе, узнала ее красивый альт, но ушла, сочтя, что важней не утешить, а обеспечить уединение. Только теперь, оглядываясь назад, можно понять, что это был неправильный выбор. Матильда почувствовала, как в ней закипает гнев на Кристину, и выдохнула в Лотто, чтобы выпустить гнев из себя.
Лотто завел руку за спину, выгреб оттуда жену и пересадил к себе на колени. В животе у него урчало, но он не мог впихнуть в себя больше одного-двух кусочков: уже неделю дожидался звонка и боялся выйти из дому, не дай бог пропустит. Матильда для того и предложила этот пикник в складчину, немного его отвлечь. Роль была Клавдио в постановке «Меры за меру», в рамках программы «Шекспир в Центральном парке», намеченной на следующее лето. Он представил себя в дублете перед лужайкой, на которой тысячи людей сидят на складных стульях. Вьются летучие мыши. Розовые отблески заката. Сумерки. После выпуска он работал стабильно, пусть роли были и небольшие. Вступил в профсоюз актеров. Это все-таки шаг к успеху.
Через окно он глянул в квартиру, где на каминной полке упорно молчал телефон. Над ним висела картина, которую Матильда несколько месяцев назад принесла домой из галереи, где последний год проработала. Вышло так, что художник убрался в ярости, швырнув полотно о стену так, что треснул подрамник, и Ариэль, хозяин галереи, велел выбросить шедевр на помойку. Но Матильда взяла картину, натянула на новый подрамник, вставила в раму и повесила за латунным Буддой. Это была абстракция в синих тонах, напоминавшая Лотто момент перед рассветом, призрак туманного мира между мирами. Что там за мир? Кто знает. Загадка. Как и сама Матильда. Случалось, придя домой, он заставал ее в полутьме: с бокалом красного вина в ладонях, она с отрешенным видом не сводила с картины глаз.
– Стоит ли мне беспокоиться? – спросил он как-то, вернувшись после актерской пробы на роль, которой ему, в общем-то, не хотелось, и, увидев, что она опять сидит так в сумерках и без света, поцеловал в местечко за ухом.
– Нет. Я просто счастлива, – сказала она тогда.
И он не стал ей рассказывать, какой это был долгий день, что пришлось два часа дожидаться на улице под мелким дождем, что, зайдя наконец, прочитав свои реплики и выйдя, он успел услышать, как режиссер сказал: «Блеск. Жалко, что он гигант». Что агент не перезванивает ему. Что для разнообразия неплохо бы разок вкусно поужинать. Не стал рассказывать, потому что это все ерунда. Раз она счастлива, значит, не бросит его, – хотя за время их недолгого брака стало до боли очевидно, что он не стоит того, чтобы она гробила на него столько сил. Не женщина, а святая. Экономит, тревожится, каким-то чудом оплачивает счета, когда он ничего в дом не приносит. Он сел рядом и сидел, пока совсем не стемнело, и тогда она повернулась, зашуршав шелком, и внезапно поцеловала его, и он отнес ее в постель, так и не поев.
А сейчас Матильда поднесла ему ко рту вилку с кусочком рыбного пирога, и хотя пирога ему не хотелось, она смотрела на него, и в глазах у нее плясали золотом искры, так что он снял губами кусок с вилки, а потом чмокнул ее в веснушчатую переносицу.
– Это отвратительно, – крикнул Эрни со своей простыни. Его рука обнимала девицу в татуировках, с которой он познакомился в баре. – Вы женаты уже год. Медовый месяц закончился.
– Никогда, – в один голос ответили Матильда и Лотто, чокнулись мизинцами и снова поцеловались.
– И на что это похоже? – тихо спросила Натали. – Я имею в виду брак.
Лотто сказал:
– Бесконечный банкет. Ешь и ешь, и никогда не насытишься.
А Матильда сказала:
– Киплинг назвал это очень долгим разговором.
Лотто посмотрел на жену, коснулся ее щеки, кивнул:
– Да. – И не стал поправлять, что это Стивенсон, а не Киплинг.
Чолли наклонился к Данике, которая сразу же отстранилась.
– Ты должна мне миллион баксов, – прошептал он.
– С какой стати? – огрызнулась она. Ей ужасно хотелось куриную ножку, но придется сжевать гору салата, прежде чем она позволит себе что-то с жирком.
– В прошлом году, на новоселье у них, – сказал Чолли, – мы поспорили на миллион, что к этому времени они уже разведутся. Ты проиграла.
Они смотрели на Лотто и Матильду, таких красивых, – тихую ось этого сада, вокруг которой вращается мир.
– Не знаю, сколько в этом притворства, – сказала Даника. – Мне все кажется, они что-то темнят. Возможно, он притворяется верным, а она притворяется, что ей все равно.
– А ты злая, – с восхищением сказал Чолли. – Слушай, что у тебя за счеты с Лотто? Ты что, входишь в число миллионов, павших к его ногам? Ведь они все еще любят его. Я тут случайно встретил эту, знаешь, Бриджет, которая в колледже считала себя его подружкой, и она разрыдалась, когда спросила о нем. Похоже, он любовь всей ее жизни.
Даника прищурилась и поджала губы. Чолли заржал, со ртом, набитым лазаньей.
– Или нет, все наоборот! – сказал он. – Он к тебе даже не приставал!
– Или ты уймешься, или я заткну тебе пасть салатом, – прошипела она.
Они помолчали, кто жевал, а кто притворялся, что ест. Наконец Даника сказала:
– Хорошо. Я иду ва-банк. Но теперь срок дольше. Шесть лет. До 1998 года. Они разведутся, ты заплатишь мне два миллиона баксов, и я куплю квартиру в Париже. И все.
Чолли сморгнул, выпучив глаза.
– То есть ты считаешь, что я смогу заплатить?
– Конечно, сможешь. Ты из тех скользких людишек, у которых к тридцати уже есть сто миллионов, – кивнула Даника.
– Это лучшее, что я о себе слышал! – признал Чолли.
Когда тени сгустились настолько, что жест стало не различить, Сюзанна ущипнула Натали за попу. Они хмыкнули в свои чашки. Это был договор: следующую ночь они проведут у Сюзанны. Только Натали знала про новую работу Сюзанны в мыльной опере, роль взбалмошной дочки злодея; и тем, что между ними новый прилив чувств, они ни с кем не делились. «Моя карьера погибнет, не успев родиться, если все узнают, что я как есть лесбиянка», – говорила Сюзанна.
Что-то крутило Натали, бесило, но она держала это при себе, отдавшись ярким мыслям о Сюзанне, когда весь день сидела за своим унылым серым столом и торговала разными разностями, а ее банковский счет рос и рос с каждой секундой.
А Натали ведь похорошела, подумал Лотто, наблюдая, как она поводит рукой над последней мятной конфетой. Обесцветила усики, похудела, стала одеваться со вкусом. Обрела ту свою красоту, о которой он всегда знал. Он улыбнулся ей, и она, вспыхнув, в ответ расцвела.
Насытясь, жевать стали не так активно. Примолкли. По кругу пошли брауни с карамелью.
В темнеющем небе расплывался кремовый инверсионный след. Что-то трогательное было в том, как он исчезал, и многие вспомнили мертвую черноволосую девушку, подумав, что никогда больше ее руки не сомкнутся у них на шее в объятии и что пахло от нее апельсином.
– А я в приготовительной школе однажды нашел мальчика, который повесился, – внезапно сказал Лотто. – Повесил себя.
Все с интересом посмотрели на помрачневшего Лотто. Ждали продолжения, потому что с Лотто вечно были истории, но он больше ничего не сказал. Матильда взяла его за руку.
– Ты никогда не рассказывал, – прошептала она.
– Потом тебе расскажу, – сказал он.
Бедный прыщавый Повидло повис призраком в саду, глотнуть свежего воздуха; Лотто провел рукой по лицу, и мальчик исчез.
Кто-то воскликнул:
– Смотрите! Луна! – И вот она вознеслась, как корабль на гребень волны, на темно-синий край неба, и наполнила души томлением.
Рэйчел уселась рядом с братом, приникнув к его теплу. Готовясь к осенним каникулам, она проколола уши по всему завитку и выбрила сзади волосы, оставив их длинными впереди. Для десяти лет смело, но нужно было что-то сделать, иначе выглядишь как мелкая шестилетка с трясущимися от нервов руками, и она, приглядевшись к сверстникам, сделала вывод, что уж лучше считаться чокнутой, чем мимимишной. [Умная девочка. Да.]
Только что она сходила в дом сунуть конверт со своими карманными деньгами за прошлый год в ящик с нижним бельем Матильды, порылась в шелку; от Рэйчел не ускользнуло, что ящики с бельем ее брата пусты, что в прошлом месяце Матильда звонила Салли и Салли посылала наличные. Теперь она наблюдала за окном на втором этаже, где виднелись трепещущий край занавески, полкулака и один глаз. Рэйчел вообразила комнату с оклеенным обоями потолком. Коты-инвалиды, коты-циклопы и коты с огрызком вместо хвоста, коты-подагрики с распухшими лапами. Вонючая мазь для суставов. Тарелка минестроне, разогретая в микроволновке. Унылая старуха внутри.
Мувва движется к такому же будущему; розовый пляжный домик – гробница с фарфоровыми фигурками и вощеным ситцем. Мувва любит шум моря, так она говорит, но Рэйчел ни разу не видела, чтоб она хотя бы вышла на пляж. Только сидит в своем розовом аквариуме, как рыбка-присоска, и жадно гложет стекло. Бедная Мувва.
Я никогда не состарюсь, пообещала себе Рэйчел. Я никогда не буду грустить. Лучше проглочу капсулу с цианидом и покончу с собой, как та подруга Лотто, о которой все плачут. Жизнь не стоит того, чтобы ее жить, если ты не молод и не окружен молодыми людьми в прекрасном холодном саду, где пахнет сырой землей, цветами и палыми листьями, где сверкают нити рождественских огней, а вокруг мирный город в последнюю распрекрасную ночь года.
Сидя под увядшим кустом дурмана душистого, полосатая старушкина кошка наблюдала, что происходит.
Странные существа эти люди. Разлеглись вокруг еды, как огромные коты, насытившиеся добычей. Подмывало подойти и получше принюхаться, но их слишком много, и они такие внезапные, не знаешь, что выкинут. И точно: вдруг вскочили, загомонили, собирают вещи в охапку, носятся взад и вперед. Кошку удивил их испуг, потому что она-то запах дождя чуяла задолго до того, как он забарабанил. Ложка, выпавшая из миски с табуле, упала на землю и осталась лежать в брызгах пыли, взбитой первыми каплями. Люди все разбежались. Из окна, расположенного на уровне земли, высунулась рука и выключила гирлянду на дереве. В наступившей вдруг темноте желтый шнур, извиваясь, прополз к окну, как змея, и кошка изготовилась было броситься и схватить, но он исчез, а окно закрылось. Деликатно смахнув лапой крупную каплю с края листа, кошка галопом пересекла двор и вошла в дом.
Дверь открылась, в квартиру ввалился гоблин. Было девять вечера и холодно не по сезону. Вослед гоблину явились свинка Пигги, скелет и призрак. Потом, походкой лунатика, Альберт Эйнштейн. Сэмюэл пришел в абажуре вместо шляпы, в картонной коробке, раскрашенной под прикроватную тумбочку, с приклеенными сверху журналом и двумя обертками от презервативов. Лотто, в тоге и позолоченном лавровом венце, поставил свою банку пива на тумбочку Сэмюэла и сказал:
– Привет! Ты прикроватная тумба. О, прикрой свою тумбу. Хха.
Мимо прошуршала убиенная королева выпускного бала с ножом в груди:
– Не прикроет, не обольщайся.
Сэмюэл сказал:
– Кажется, это моя бывшая, – ухмыльнулся и пошел к холодильнику за пивом.
– С каких это пор у нас на Хэллоуин снег? Тоже мне глобальное потепление! – сказала Луанна, топая ботинками по коврику из ротанга.
Подруга Матильды – они вместе работали в галерее – Луанна была мастерски раскрашена под Дору Маар с той картины Пикассо, где надкусанное яблоко вместо щеки. Она в затяжку поцеловала Лотто, проговорив:
– О, да ты Цезарь, что ж, тогда слава тебе!
Он засмеялся, слишком громко, и отстранился. От Луанны лучше подальше. Матильда почти каждый день приносит домой рассказы о том, как Луанна пытается охмурить их босса по имени Ариэль, пучеглазого типа с водевильно густыми бровями. «Зачем это ей? – удивлялся Лотто. – Она хорошенькая. Молоденькая. Могла бы найти получше». На что Матильда, одарив его взглядом, сказала: «Малыш, он богат!» – и, конечно, этим все объяснялось.
Лотто подвел Луанну к Матильде. Та, ослепительная в обличье Клеопатры, ела кексик рядом с огромным латунным Буддой, восседавшим на каминной полке в солнечных очках и с гирляндой цветов на шее. Лотто обнял жену и слизал крошки с ее смеющихся губ.
– Фу, – сказала Луанна. – Таких, как вы, ребята, просто не бывает, черт вас возьми.
Она пошла на кухню, достала из холодильника бутылку «Зимы», отхлебнула угрюмо, поморщилась. Степень уныния Лотто она оценивала по размеру его брюшка и по тому, насколько дом завален старыми книгами; хандря, Лотто только и мог что читать. Это было забавно, ведь он казался таким здоровенным шутом гороховым, а потом открывал рот и страницами шпарил Витгенштейна и прочих. Это даже нервировало, пропасть меж тем, каким он выглядел внешне, и тем, кого он носил в себе.
Кто-то поставил диск «Нирваны», и девицы поднялись с кожаного дивана, который Лотто притащил с улицы. Попытались потанцевать, сдались и снова включили Майкла Джексона, «Триллер».
Чолли, зеленый гоблин, подкрался к Лотто с Матильдой, пьяный до невразумительности.
– Никогда прежде не замечал, как близко посажены у тебя глаза, Матильда, и как широко они расставлены у тебя, Лотто. – Показал двумя указательными на Матильду, как нож воткнул, и сказал: – Хищница, – а потом так же ткнул в Лотто: – Добыча.
– Что, я жертва, а Матильда хищник? – повторил Лотто. – Да брось ты. Это я охочусь за ней. Это я ее сексуальный маньяк, – сказал он, и все тихо взвыли.
Луанна, через комнату в упор глядя на Эрни, нетерпеливо взмахнула рукой.
– Помолчите, ребятки, – сказала она. – Сейчас я хищница.
Матильда вздохнула и сделала шаг назад.
– Погоди-ка. Это ты про кого? А, Эрни, – презрительно отмахнулся Чолли. Неужели ревнует? – Да ну, он же тупой.
– Именно. Никчемный, как перегоревшая лампочка, – кивнула Луанна. – Как раз то что нужно.
– Эрни? – переспросил Лотто. – Да Эрни прошел спецкурс по неврологии в колледже. Он не тупой. То, что он не пошел в Гарвард, как ты, ничуть его не тупит.
– Ну, не знаю. Может, пропил мозги, – предположила Луанна. – В прошлый раз у вас тут я слышала, как он сказал, что его духовный вождь – Стинг.
Лотто, присвистнув, подозвал Эрни. Тот, в образе Халка, оторвался от кучки девушек, которых баловал шоколадным мартини, подошел к Лотто и хлопнул его по плечу. Эрни и Чолли, оба в зеленом, стоя рядом, выглядели как надутый и сдувшийся.
– Луанна сказала, – сообщил Лотто Эрни, – что она с тобой переспит, если ты сможешь дать удовлетворительное определение термину «герменевтика», – и провел их обоих в спальню, где оставил, закрыв дверь.
– Боже, – сказал Чолли. – Я бы сдох.
– И ведь не вышли еще, – сказал Лотто. – «Есть у Амура стрелы, есть и сети»[7].
– Опять Шекспир? – тяжко вздохнул Чолли.
– Всегда, – кивнул Лотто.
Чолли побрел прочь. Лотто остался один. Вскинув глаза, он увидел свое отражение в почерневших от ночи окнах, брюшко, выросшее у него в это смурное лето, и блеск на висках, там, где начинались залысины. Три с половиной года, как они отучились, а по счетам по-прежнему платит Матильда. Печально погладив Будду по голове, Лотто прошел мимо выводка ведьм, сгрудившихся вокруг поляроидного снимка, на котором проявлялись лица, колдовством вызванные из темноты.
Матильда стояла к нему спиной и тихо разговаривала с Сюзанной. Лотто подкрался ближе и понял, что речь о нем.
– Уже лучше. В сентябре снялся в рекламе кофе. Отец с малышом на рассвете ловят рыбу из лодки. Малыш падает в воду, а Лотто выуживает его веслом, спасает. Наш герой!
Они рассмеялись, и Сюзанна сказала:
– Я знаю! Кофе «Фолджерс». Я видела. Рассвет, домик в лесу, ребенок просыпается в лодке. А он ничего, Лотто. Особенно с бородой.
– Вот и шепни режиссерам, которых знаешь, чтоб ему дали роль, – сказала Матильда, и Сюзанна спросила:
– В чем?
И Матильда ответила:
– Да в чем угодно.
И Сюзанна, дернув уголком рта, сказала:
– Я погляжу, что можно сделать.
Лотто, уязвленный, поспешил уйти так, чтобы они его не заметили.
Матильда неприязни не выражала, но пассивную агрессию носила, словно вторую кожу. Если ей не нравилась еда в ресторане, она не притрагивалась к ней, опустив глаза и рта не отмыкая, пока Лотто, сдавшись, не замечал официанту, что блюдо пересолено или не прожарено, так что, сделайте одолжение, предложите нам что-то еще, спасибо, приятель. Однажды она добилась приглашения на свадьбу на острове Мартас-Винъярд, простояв весь вечер рядом с невестой, известной бродвейской актрисой, вежливо улыбаясь, но ни слова не говоря, пока невеста в порыве не пригласила и их тоже. Они присутствовали, танцевали; Лотто очаровал продюсера, и ему позвонили, когда возобновлялась «Моя прекрасная леди», хотя голос у него был небольшой, и роль ему не досталась; актрисе они послали в подарок симпатичный набор старинных серебряных ложечек для грейпфрута, который купили на барахолке и отдали отполировать, чтобы выглядело подороже.
Перед Лотто предстало видение его самого: вот он, и от него исходят сотни блестящих нитей, привязанных к пальцам рук, векам, пальцам ног, мышцам рта. Все струны ведут к указательному пальчику Матильды, и легчайшим мановением пальчика она заставляет его плясать.
Гоблин Чолли остановился рядом с Матильдой, и они вместе через комнату полюбовались на Лотто в кольце парней: бутылка бурбона висит между двумя пальцами, золотистый обруч из листьев, съехав, при каждом движении подскакивает у него на затылке.
– Что мучит твою задницу? – спросил Чолли. – Ты будто не здесь.
– С ним что-то не так, – вздохнув, сказала Матильда.
– А я думаю, он в порядке, – возразил Чолли. – Беспокоиться стоит, только если дела очень хороши или же совсем плохи. А так – он выходит из летнего спада. – Он помолчал, наблюдая за Лотто. – И, по крайней мере, пузико стало меньше.
– Благодарение небесам, – сказала она. – Я все лето боялась, что он вот-вот спрыгнет под поезд. Ему нужна роль. Иногда вообще не выходит из дому. – Она встряхнулась. – Ну да ладно. Как там у тебя с продажей подержанных автомобилей?
– Я с ними завязал, – сказал Чолли. – Сейчас в недвижимости. Через пятнадцать лет мне будет принадлежать пол-Манхэттена.
– Ну-ну, – сказала Матильда, а потом, внезапно: – А я ухожу из галереи.
Они оба удивились тому, что она это вывалила.
– Ого, – сказал Чолли. – А кто будет кормить гения?
– Я. Уже нашла место в одном интернет-стартапе. Сайт знакомств. Через неделю начну. Я еще никому не говорила, ни Луанне, ни Ариэлю, ни Лотто. Да, пора. Нужно что-то менять. Я думала, мое будущее связано с искусством. Нет, это не так.
– Значит, с интернетом?
– Все наше будущее, – изрекла она, – наше общее будущее – все связано с интернетом.
Оба улыбнулись, глядя в свои бокалы.
– Но почему ты мне это говоришь? – после паузы спросил Чолли. – Не странный ли выбор доверенного лица?
– Да сама не знаю, – ответила Матильда. – Не пойму пока, добро ты качественный или зло. Но вот чувствую, что могу прямо сейчас выложить тебе свои тайны и ты будешь хранить их, выжидая, когда придет время предъявить компромат.
Чолли притих, недоверчиво на нее глядя.
– Ага. Ну давай, выкладывай.
– Размечтался!
Развернулась и бросила Чолли, а сама подошла к мужу и что-то шепнула ему на ухо. Лотто выкатил на нее глаза, подавил улыбку, отвернулся и не стал смотреть, как жена, обойдя гостей, выскальзывает из квартиры, по пути щелкнув выключателем, так что из освещения в комнате осталось лишь мерцание тыквенных фонарей.
Минуту спустя Лотто как бы ненароком тоже вышел за дверь.
Поднялся на лестничный пролет и нашел Матильду у двери старой соседки. Под ногами гудело празднество; находясь внутри, трудно было даже представить, как мощно они шумят. Странно, что старуха до сих пор не вызвала полицию, как обычно бывает. Видимо, еще нет десяти.
Дверь на улицу распахнулась, группка клоунов с топотом повалила вниз в их квартиру, повеяло холодком, голую задницу Лотто обнесло гусиной кожей. Но скоро входная дверь хлопнула, закрываясь; открылась дверь в их квартиру, открылась и поглотила клоунов.
Впившись губами в изгиб ее шеи, он высвободил левую грудь из бюстье. Развернул Матильду, чтобы прижать щекой к двери, но она, сверкнув глазом, вырвалась, и он покорно стал миссионером стоя. Пусть это не так возбуждающе, все равно – молитва богам любви.
В квартире же за той дверью Бетт одна, в темноте, жуя бутерброд с яйцом всмятку, бдительно прислушивалась к празднеству, что кипело внизу. И вот он, узнаваемый скрип лестницы, и Бетт трепещет при мысли, что это крадется вор, а у нее за горшком папоротника пистолетик припрятан. Отложив бутерброд, она прижимается ухом к двери.
Нет, тут скрип другого рода, а потом шепот. Пробный, пристрельный удар, и еще. Точно! Там происходит это.
Столько времени утекло после Хью, но то, как это бывало меж ними, еще свежо в памяти, точно персик, в который вонзаешь зубы. Словно вчера была вся эта телесная радость. Они так рано сошлись, что даже не понимали толком, что вытворяют, но не собирались бросать, а достигнув положенного возраста, поженились. Этот кайф, химия – совсем не худшее, на чем можно построить брак. Первые годы были горячкой, а последние – просто счастьем.
Девица на лестничной площадке застонала. Парень что-то пробормотал, но не так явственно, чтобы Бетт смогла разобрать, а девица стонала все громче, а затем притихла, будто закусила что-то, чтобы не закричать, – может, его плечо? В дверь они долбали усердно. Бетт всем телом прижалась к вздрагивающему деревянному полотну [так давно никто к ней не прикасался; в продуктовом магазине она протягивает мелочь на ладони, чтобы хоть продавец притронулся пальцем к руке]. Вот ведь атлеты! И не хочешь, а вспомнишь воскресную экскурсию в зоопарк и ликующее непотребство обезьян-капуцинов. Раздался придавленный рык, и Бетт прошептала своей кошечке, которая выписывала восьмерки вокруг лодыжек: «Сласть или напасть, старушка. Чистая правда».
С лестничной площадки доносилось хриплое дыхание, шорохи и голоса этих дурачков. О, она знает, кто они: странного вида верзила с нижнего этажа и его долговязая бесцветная жена, – но когда она с ними в холле столкнется, то не станет смущать, не подаст виду. Послышались шаги вниз, музыка стала громче, затем, когда дверь за ними закрылась, тише, и Бетт снова осталась одна. Что ж, теперь стаканчик виски безо всякого льда и давай-ка в постель, голубка, как положено хорошей девочке, ты ведь теперь такая.
Пробило десять, и Матильда на коленях собирала осколки разбитого бокала, миллионного, наверно, по счету за те пять лет, что они живут в этой кошмарной квартире. Целых пять лет, и все под болтовню о наработке деловых связей, формировании репутации и прочем вздоре. Но когда-нибудь Лотто получит роль, и тогда станет полегче. Ох, как же она устала. Даже поленилась сегодня вставить контактные линзы, и стекла ее очков захватаны пальцами. Хотелось, чтобы все уже разошлись по домам.
Она услышала, как Лотто сказал с дивана:
– Это попытка встряхнуть обстановку. По крайней мере, здесь теперь не так ярко, как во рту, набитом лимонными карамельками.
Рэйчел, потрогав недавно перекрашенную стену, пробормотала:
– Но что за цвет? «Самоубийство в сумерках»? «Церковь зимним днем»? Темнее синего я еще не встречала.
Похоже, Рэйчел взвинчена больше обычного; минуту назад на улице жахнул выхлоп автомобиля, и она с перепугу выронила бокал.
– Ну, пожалуйста, давай я уберу, – просила она Матильду. – Раз уж я такая нескладная недотепа.
– Да все уже. И я слышала, что ты сказала про новый окрас. Но знаешь, мне цвет нравится, – отозвалась Матильда, выбрасывая осколки в мусорное ведро, куда капнула и капля крови, – оказывается, она поранила указательный палец, сама того не заметив. – Ччерт, – прошипела она.
– И мне нравится, – сказала Луанна. За прошедший год она раздалась, как тесто перед вторым замесом. – Я имею в виду, что как фон для украденной картины это годится.
– Перестань, – сказала Матильда. – Питни картину разбил, Ариэль велел мне ее выбросить. И я выбросила. И если я потом ее из мусорки забрала, то все честно.
Луанна с натянутой улыбкой пожала плечами.
– При всем моем уважении, – вступил Чолли, – это худшая вечеринка во всей истории вечеринок. Мы говорим о стенах. Сюзанна и Натали лижутся, а Даника спит на ковре. И с чего ты затеял устроить нам дегустацию? Кто из нас, не доживших до тридцати, что-нибудь смыслит в винах? Даже в старших классах выпадали вечеринки получше.
Лотто улыбнулся, и комната осветилась, как при первых лучах солнца. Все оживились.
– Да, мы правда тогда бесились вовсю! – Лотто повернулся к остальным и продолжил: – Я успел пожить в Кресчент-Бич всего несколько месяцев, а потом Чолли меня развратил, и мама отправила меня в частную школу. Но то время было лучше всего. Гудели почти каждую ночь. Даже сказать не могу, сколько наркоты мы употребили. И, Чолл, помнишь ту тусню в заброшенном доме на болоте? Я трахал девчонку на крыше, когда понял, что дом горит, второпях скатился с нее и спрыгнул со второго этажа в кусты, а когда выполз из них, у меня член торчал из ширинки. Пожарные наградили меня аплодисментами.
Все рассмеялись, а Лотто сказал:
– Это была моя последняя ночь во Флориде. Назавтра мама отослала меня из дому. Посулила школе огромный взнос, нарушив все правила приема. И с тех пор я дома ни разу не был.
Чолли издал сдавленный звук. Все перевели глаза на него.
– Моя сестра-близняшка, – сказал он. – Это была она. Это ты с ней трахался.
– Черт меня побери, – сказал Лотто. – Мне так жаль, Чолли. Прости! Я болван.
Чолли вдохнул глубоко, а затем выдохнул.
– Это было в ту ночь, когда мы валяли на пляже дурака, перед тусней, и я сломал ногу. Спиральный перелом. Я был в операционной, когда у вас загорелось.
Долгое молчание.
– Чувствую себя идиотом, – сказал Лотто.
– Да ладно, – махнул Чолли. – К тому времени она переспала уже со всей футбольной командой.
Девушка, с которой Чолли пришел, издала удивленный звук. Это была худенькая манекенщица из какой-то страны, входившей в СССР, и ее красота, вынужден был признать Лотто, затмевала даже Матильду. [В те дни это было нетрудно.]
Лотто посмотрел на жену. Та стояла на кухне, усталая, с немытыми волосами, в очках и толстовке. Не следовало ему настаивать на этом сборище. Но он сделал это ради нее, он беспокоился; она уже несколько недель какая-то тихая, вялая и пришибленная. Что-то не так. И ничто не проканывало, ни одна из его шуток.
– Ты это из-за работы? – спрашивал он ее. – Слушай, если тебе там плохо, давай ты уволишься, и мы заведем детей.
Если он подарит Антуанетте внука, мать наверняка смилостивится. Тогда у них будет полно денег, достаточно, чтобы Матильда смогла отмякнуть и разобраться с собой, чем она хочет заниматься на самом деле. А так она казалась ему художником, который не сумел отыскать свой почерк, пробует то и это, но никак не может напасть на средство себя выразить. Возможно, она найдет это в детях. Но нет.
– Господи, Лотто, перестать же болтать, прекрати эту говорильню, и особенно про детей, – шипела она.
И правда, они еще слишком молоды, и друзья их не расплодились еще, по крайней мере намеренно, и он отложил этот разговор на потом и отвлек ее, предложив посмотреть по видео фильм и выпить.
Теплилась мысль, что вечеринка с дегустацией вин взбодрит и поднимет дух, но теперь ясно, что все, чего ей хочется, – это залечь на новый матрас в спальне, где вышитые занавески и старые гравюры птичьих гнезд, и зарыться лицом в подушку. Он навязал ей сегодняшний вечер.
Ему стало еще страшней. Что, если она собирается с силами уйти от него? Что, если ее мрачный настрой не из-за нее, а из-за него? Он знал, что разочаровал ее; что, если она думает, что без него добилась бы большего? Он раскрыл объятия ей навстречу, скорее даже, чтобы утешиться самому, но она подошла с бумажным полотенцем лишь для того, чтобы он замотал ей кровящий палец.
– Ну, не знаю. По-моему, отличная вечеринка, – сказала Рэйчел.
Преданная Рэйчел с острым личиком и голодным выражением глаз. Она вырвалась в город на выходные из своей приготовительной школы. Ей только четырнадцать, но вид у нее усталый и, Лотто заметил, ногти обкусаны до мяса. Не забыть бы спросить у Салли, не происходит ли с ней такого, о чем ему следует знать.
– Тут есть чему поучиться, и уж точно лучше, чем на пятничном девичнике с ночевкой в общаге.
– Да уж, девичник, представляю себе! – сказал Лотто. – Мятный шнапс. «Клуб „Завтрак“» по видаку. Кто-то всю ночь ревет в ванной. В полночь бега́ голышом через школьный двор. Любимая девчачья игра в бутылочку. Моя Рэйчел в пижамке с лобстерами читает в уголке книжку, оценивающе поглядывая на всех, как мини-королева. Рецензия в ее журнале будет разгромной.
– Да, – кивнула Рэйчел. – Обманутые надежды, банально и пресно. Два пальца вниз.
Все рассмеялись, и концентрация безнадеги в воздухе разредилась. Эта способность облагораживать обстановку – эффект Рэйчел. Дар, не сразу бросающийся в глаза, но достойный.
Наступившую тишину прервала Луанна:
– И все-таки, Матильда, скажу, что профессиональная этика должна была помешать тебе взять холст.
– Черт возьми, – не выдержала Матильда. – И что, было бы правильно, если бы кто-то другой вынул его из помойки? Ты, например? В чем дело, Луанна? Ты что, завидуешь?
Луанна поморщилась. Конечно, завидует, подумал Лотто. Наверно, Луанне нелегко приходилось, когда Матильда работала в галерее. После Ариэля Матильда всегда была первой. Знающая, умная, любезная. И конечно, Ариэль любил Матильду. Все любят Матильду.
– Ха, – сказала Луанна. – Забавно. Тебе, что ли?
– Сделай одолжение, прекрати, – сказал Чолли. – Если бы это был Пикассо, все бы хвалили Матильду за ее художественное чутье. Не будь сучкой, Луанна.
– Ты назвал меня сучкой? Ты? Да кто ты такой?
– Мы встречались уже миллион раз, и ты каждый раз это спрашиваешь, – сказал Чолли.
Даника наблюдала за перебранкой так, словно это игра в пинг-понг. Она еще сильней похудела; руки и щеки ее покрылись странным пушком. Она смеялась.
– Не ссорьтесь, пожалуйста, – тихо сказала Рэйчел.
– Никак не пойму, зачем вообще прихожу на эти ваши дурацкие сборища, – сказала Луанна, вставая. От злости у нее полились слезы. – Ведь ты абсолютная фальшивка, Матильда, и ты знаешь, о чем я говорю. – Потом она повернулась к Лотто и брызнула в него ядом: – А вот ты не фальшивка, Лотто, ты просто долбаный Бэмби. Все уже давным-давно поняли, что для сцены у тебя маловато таланта. Но никто не смеет тебе это сказать, боятся обидеть. И больше всех боится твоя жена, которая из кожи вон лезет, чтобы ты, младенчик, остался в неведении.
Лотто вскочил со стула так быстро, что кровь отхлынула от лица.
– Заткни свою свинячью пасть, Луанна. Лучше моей жены на свете никого нет, и ты сама это знаешь!
Рэйчел сказала: «Лотто!», и Матильда тихо сказала: «Лотто, остановись», а Натали и Сюзанна сказали: «Эй!» Только Чолли разразился пронзительным смехом. Ольга, о которой они все забыли, развернулась и ткнула его кулаком в плечо, а потом встала и, простучав по полу своими высокими каблуками, распахнула дверь квартиры. Крикнула: «Вы чудовища!» – и выбежала на улицу. Холодный ветер, прорвавшись вниз по ступенькам от входной двери, окатил их снежинками.
Длительное мгновение ничего не происходило. Затем Матильда сказала:
– Пойди за ней, Чолли.
– Не-а, – сказал он. – Без шубы она далеко не уйдет.
– На улице минус десять, кретин, – сказала Даника и швырнула Ольгину синтетическую шубку в физиономию Чолли; ворча, он встал и вышел, хлопнув и той, и другой дверью.
Матильда поднялась с места, сняла со стены картину, висевшую над сияющей башкой латунного Будды, и протянула ее Луанне.
Луанна картину машинально взяла и на нее посмотрела.
– Нет, – сказала она. – Я это принять не могу.
Всем, кто был в комнате, почудилось, что в тишине идет жестокая битва.
Матильда села, скрестив на груди руки, и закрыла глаза.
Луанна положила картину на колени Матильде, вышла, дверь за ней закрылась, и навсегда. Без нее стало как будто светлей, даже верхний свет сделался не таким резким.
Друзья ушли один за другим. Рэйчел заперлась в ванной, там полилась вода.
Они остались вдвоем. Матильда опустилась перед Лотто на колени, стянула с себя очки и уткнулась лицом ему в грудь. Он сокрушенно обнял ее, что-то ласково бормоча. Ссоры вызывали у него тошноту. Он их не выносил. Худые плечи жены тряслись. Но когда она подняла голову, он поразился: лицо у нее было горячее и опухшее, но она смеялась. Смеялась?! Лотто расцеловал лиловые штампики у нее под глазами, веснушки по бледной коже. У него голова пошла кругом от восхищения.
– Ты сказал, у Луанны свинячья пасть, – хохотала она. – Это ты-то, мистер Само Добродушие. Тот, кто всегда спешит сгладить конфликт. Ха!
Чудо, а не человек.
Его залило теплом, и он понял, что она преодолеет и этот этап испытаний, столь тяжкий, что ей трудно разделить его с ним. Она здесь. Она не уйдет. Она снова полюбит его. И отныне в каждом доме, где им предстоит жить, эта картина будет окрашивать воздух синью. Она – свидетельство.
Супружество поднялось с пола, потянулось, размялось и оглядело их, уперев руки в бока. Матильда возвращается к Лотто. Аллилуйя.
– Аллилуйя, – сказал Чолли, опрокидывая в себя яичный коктейль, в основном из бренди. Было одиннадцать вечера. – Христос родился!
Они с Лотто молчком соревновались, кто напьется сильней. Лотто лучше скрывал хмель, казался нормальным, но комната ходуном ходила, если расфокусировать взгляд.
Снаружи густая темь. Уличные фонари как леденцы из яркого снега.
Тетя Салли токовала, не умолкая, часами, и сейчас тоже.
– Конечно, я ничего не понимаю ни в чем, не рафинирована, как вы все, бакалавры с дипломами и художники, и конечно, не мне подсказывать тебе, что делать, Лотто, мой мальчик, но если бы это была я, а это не так, я знаю, но если бы было так, то я бы сказала, на твоем месте, что я сделала все, что смогла, и гордилась бы теми тремя-четырьмя спектаклями, в которых сыграла в последние годы, ведь, скажем так, не каждому дано стать Ричардом Бертоном, и, может, я кое-что еще сделаю в своей жизни. Например, приму на себя контроль за трастовым фондом или что-то еще. Верну расположение Антуанетты. Получу доступ к наследству. Ты же знаешь, как плохо она себя чувствует, у нее никудышное сердце. Рэйчел и ты, вы оба много получите, когда она умрет, – и дай бог, чтобы это случилось не скоро.
Она хитро покосилась на Лотто поверх своего носика-клювика, совсем как у канарейки. Будда тихо посмеивался с каминной полки. Вокруг него буйно цвела в горшках пуансеттия, «рождественская звезда». Под ним в камине горел огонь, который Лотто осмелился развести из веток, собранных в парке. Позже в трубе взвоет ветер, как мчащийся товарняк, там загорится сажа, и ночью прибудут пожарные.
– У меня не лучшие времена, – сказал Лотто, – Это так. Но, послушай, я родился богатым белым мужчиной. Мне нечего было желать. И нечего будет вложить в роль, если не накопить опыта неудач. Зато я занимаюсь тем, что люблю. Это не так мало.
Прозвучало неискренне даже для него самого. Плохо сыграно, Лотто. [Но актерство уже выскальзывало из рук, не так ли?] Сердце больше не рвется в бой.
– И все-таки, что такое успех? – спросила Рэйчел. – Я бы сказала, что это возможность работать столько, сколько ты хочешь, над тем, что тебя вдохновляет. У Лотто все эти годы стабильно была работа.
– Ты моя дорогая, – сказал Лотто сестре.
Уже старшеклассница, она была так же тоща, как Салли. Вообще пошла в Саттеруайтов, смуглявая, волосатая, не на что посмотреть; друзья не могли поверить, что они с Лотто родня. Один Лотто считал ее изумительной, изысканно плоскостной. Ее худое лицо напоминало ему скульптуры Джакометти. Улыбаться она совсем перестала. Он притянул ее к себе, поцеловал и почувствовал, что внутренне она сжата в комок.
– Успех – это деньги, – сказал Чолли. – Так-то вот.
– Тихо, дети! – сказала Салли, – Успех – это сознание своего величия. Ты, Лотто, с этим и родился. Я поняла это в тот момент, когда ты с криком выскочил из Антуанетты. В разгар урагана. Ты просто не осознаешь своего величия. Гавейн вечно твердил, что ты станешь президентом США или астронавтом. Кем-то большим, чем просто большой. У тебя это в звездах.
– Прости, что разочаровал, – сказал Лотто. – И тебя, и мои звезды.
– Ну, еще ты разочаровал нашего покойного папеньку, – рассмеялась Рэйчел.
– За нашего разочарованного покойного отца, – сказал Лотто.
Он поднял бокал, глядя на сестру, и подавил горечь. Она не виновата, она не знала Гавейна и не может знать, какую боль причинила.
В дверях появилась Матильда с подносом в руках. Великолепная, в серебристом платье, с платиновыми волосами в стиле Хичкока: она стала модницей после того, как полгода назад ее повысили в должности. Лотто захотелось отвести ее в спальню и хорошенько там потрудиться на ниве борьбы с душевным опустошением.
– Спаси меня, – одними губами произнес он, но жена на него не смотрела.
– Что-то мне неспокойно. – Матильда поставила поднос на кухонную стойку и повернулась к ним. – Я оставила это под дверью для Бетт сегодня утром. Уже одиннадцать, а она так и не вышла. Кто-нибудь видел ее последние несколько дней?
Тишина, только тиканье фамильных часов, которые Салли как ручную кладь провезла в дорожной сумке. Все подняли глаза к потолку, будто стремясь пронзить взглядом слои штукатурки, паркетной доски и ковра, заглянуть в холодную темную квартиру. [Там тишина, только холодильник гудит, большая остылая груда на кровати, и дышит одна лишь голодная полосатая кошка, дышит и трется об оконную раму.]
– Сегодня же Рождество, – сказал Лотто. – Она, наверное, вчера уехала к какой-нибудь родственнице и забыла нам сообщить. На Рождество никто не бывает один.
– Мувва, – сказала Рэйчел. – Мувва одна в своем сыром пляжном доме, наблюдает в бинокль за китами.
– Чушь собачья, – отозвалась Салли. – У твоей матери был выбор, и она предпочла свою агорафобию празднованию Рождества Христова со своими детьми. Это болезнь, поверьте мне, я знаю, это болезнь. Я живу с ней уже черт знает сколько лет. Ума не приложу, зачем я каждый год покупаю ей билет. В этот раз она даже вроде бы собралась. Надела жакет, надушилась. А потом просто плюхнулась на диван и сказала, что лучше займется тем, что расставит коробки с фотографиями в свободной ванной, наведет там порядок. Она сама сделала свой выбор, она взрослая женщина. Нам не в чем себя винить, – подвела черту тетя Салли, но поджатые ее губы противоречили сказанному.
Лотто стало чуток полегче. Значит, то, что она прицепилась к нему сегодня, шпыняла и поучала, вызвано тем, что она чувствует за собой вину.
– Я себя не виню, – сказала Рэйчел, но и у нее личико было поникшее.
– А я виню, – вздохнул Лотто. – Я так давно маму не видел. Мне ужасно не по себе.
Чолли издал саркастический вздох. Салли сердито на него посмотрела.
– Ну, это не значит, что вы, дети, не можете ее навестить, – сказала она. – Я знаю, она вас отсекла, но стоит вам провести с ней пять минут, как она снова вас обоих полюбит. Это я могу обещать. И могу это устроить.
Лотто открыл было рот, но уж слишком много пришлось бы сказать неприятного, что было не по-рождественски по отношению к матери, так что он закрыл рот и оставил свою речь при себе.
– Послушайте, – сказала Матильда, пристукнув о стол бутылкой красного вина. – Антуанетта никогда не бывала в этой квартире. Она никогда не встречалась со мной. Она выбрала злиться и не намерена перестать. Мы не можем страдать от ответственности за ее выбор.
Заметив, что у нее дрожат руки, Лотто понял, что она в гневе. Он очень ценил те редкие моменты, когда она показывала, как тонок слой ее внешней невозмутимости, как под ним все кипит. Лотто, правду сказать, беспутной частью себя не прочь был бы запереть жену с матерью в одной комнате, пусть сами со всем разберутся, повыдергают проблемы. Впрочем, нет, ему жаль Матильду, она слишком милая, и, если проведет в обществе матери хотя бы минуту, увечий ей не избегнуть.
Между тем милая Матильда выключила верхний свет, так что комнатой завладела рождественская елка, вся в гирляндах и стеклянных сосульках, и Лотто усадил жену к себе на колени.
– Дыши, – тихо прошептал он ей в волосы.
Рэйчел зажмурилась, так елка сверкала.
Лотто знал, что Салли выдала горькую правду. За прошедший год стало ясно, что он больше не может рассчитывать на свое обаяние, оно износилось, поблекло. Лотто проверял его снова и снова: в кофейнях, на кастингах и на людях, которые читают в метро, – но если и получал поблажки, то лишь те, что предоставляются всякому и любому в меру симпатичному молодому мужчине, так что с обаянием дело было швах. В последнее время тот, к кому он обратился, мог запросто отвернуться, и все. А ведь он привык, что у него это по щелчку, щелкнул, и засияло. Но он утратил этот дар, свой шарм, свою неотразимость, свое сияние. Улетучились в прошлое легкость в словах, остроумие и находчивость. Не припомнить ночи, когда он заснул бы трезвым.
И тогда Лотто взял и запел. «Колокольцы», рождественскую песенку, которую ненавидел, да и тенорок его оставлял желать лучшего. Но что еще оставалось, кроме как петь, перед лицом отчаяния, после того как он с горечью представил себе растолстевшую мать, одиноко сидящую под величавой пальмой в горшке, увешанной разноцветными огоньками? Песенку подхватили и остальные, это было чудесно, все, кроме Матильды, еще не остывшей от гнева, хотя понемногу и она смягчилась, улыбнулась, а под конец даже запела.
Салли смотрела на Лотто, смотрела и не могла наглядеться. Ее мальчик. Свет ее очей. Зрение у нее было ясное, и она знала, что Рэйчел, благородная, добрая и скромная Рэйчел, заслуживает любви больше, чем Лотто. Но по утрам Салли просыпалась все-таки с молитвой о Лотто. Годы разлуки дались ей тяжело.
[… колоколь-колоколь-колокольцев звон!]
Ей вспомнилось то Рождество, когда он еще не закончил колледж, еще до Матильды, и Салли с Рэйчел приехали к нему в Бостон, где он снял номера в почтенном старом отеле, и снегу навалило фута на три, так что они застряли там, как во сне. За ужином Лотто умудрился уговориться о свидании с девушкой, которая сидела за другим столиком, и манерой держаться до того напоминал свою мать, когда та была молода и очаровательна, что у Салли перехватило дыхание. На тот миг Антуанетта совместилась со своим сыном. Позже Салли до полуночи выжидала в засаде, стоя у ромбовидного окна в том конце коридора, где находились их комнаты, а за ее спиной шел и шел снег, засыпая лужайку.
[… наших санок по полям радостный разгон… ]
На другом конце коридора, уменьшенные, три горничные со своими тележками смеялись, шикая друг на друга. Наконец дверь номера ее мальчика отворилась, и он вышел в одних шортах для бега. Какая красивая у него длинная спина, как у его матери, то есть, конечно, когда та была худой. На шею наброшено полотенце: он направлялся в бассейн. Грех, который он намерился совершить, был так отчаянно очевиден, что Салли порозовела, представив попку его подружки в отпечатках от кафеля и как Лотто утром увидит свои ободранные колени. Где это мальчик научился такой уверенности в себе, гадала она, в то время как он, уменьшаясь в размере, удалялся по направлению к горничным. Он что-то сказал им, и все три зазвенели смехом, и одна легонько стукнула его тряпкой, а другая брызнула блестками, шоколадными, ему в грудь.
[… но задорный смех душу веселит, ха-ха-ха!]
Он поймал их. Его смех докатился до Салли. «Каким он обыкновенным становится, – подумала она. – Банальным. Как все. Если не остережется, какая-нибудь милашка прилепится, и тогда Лотто женится, найдет себе неинтересную, но прибыльную работу, обрастет семьей, рождественскими открытками, пляжным домиком, жировыми отложениями, внуками, излишком денег, скукой и смертью. В старости, праведныйретроград, он и думать забудет о том, что было ему дано». Стерев слезы, Салли обнаружила, что осталась одна, ей дуло в шею сквозняком из окна, а по обе стороны коридора тянулись ряды дверей, в дальнем конце сливаясь в ничто.
[… сани мчатся с ветерком, песенка звенит, о!]
Но, вот радость, возникла Матильда; и хотя на первый взгляд она казалась той самой милой девушкой, которой Салли побаивалась, это было не так. Салли распознала в ней твердость духа. Матильда, надеялась Салли, сможет защитить Лотто от его лени, и что? Годы прошли, а он все еще рядовой, все еще ничего не добился. Припев застрял у нее в горле.
В окно комнаты мельком заглянул незнакомец, поспешающий изо всех сил по обледенелому тротуару. Он увидел кружок поющих людей в чистом свете, исходящем от елки, и его сердце дрогнуло, и этот образ остался с ним навсегда; не развеялся, даже когда он пришел домой к своим детям, которые уже спали в кроватках, к жене, которая сердилась, пытаясь собрать трехколесный велосипед без отвертки, одолжить которую он и бегал к соседям. Этот образ прирос к нему, не развеявшись и после того, как его дети развернули свои подарки и разбросали игрушки меж обрывков бумаги, переросли их и покинули дом, родителей и свое детство, так что он и его жена только ахнули, не в силах понять, как же это случилось так ужасающе быстро. И за все эти годы видение людей, поющих в мягком свете полуподвальной квартиры, выкристаллизовалось в его сознании как представление о том, какое оно, счастье.
Почти полночь, а Рэйчел никак не уймется по поводу потолка. Какая дерзость со стороны Матильды, позолотить его! Их тела повторялись в нем эхом, глобулы, плавающие по яркости наверху. В самом деле, золотой потолок элегантно преобразил комнату, сияя над темными стенами. Будто чья-то рука в морозный последний день года откинула крышу, как крышку банки с сардинками, и вот они все стоят и сидят под августовским солнцем.
Даже не верится, что это то самое пустое белое пространство, в которое Рэйчел вошла в день новоселья больше семи лет назад, в безумное скопление тел и пивной дух, в восхитительно потную жару с видом из окон на сад, щедро залитый сиянием раннего лета. Теперь в свете уличных фонарей поблескивают сосульки. Вокруг Будды – заросли орхидей, по углам – разросшиеся денежные деревья, стулья в стиле Людовика XIV обиты экспортной мешковиной из-под французской муки. Элегантно, слишком пышно, слишком красиво. «Позолоченная клетка», – подумала Рэйчел. Матильда весь вечер с Лотто резка. Не улыбается больше, когда на него смотрит. Ну, почти и не смотрит совсем. Рэйчел боялась, что Матильда, которую она любила больше всех на свете, вот-вот улетит отсюда, хлопая крыльями. Бедный Лотто. Бедные они все, если Матильда его бросит.
Новая подружка Рэйчел, Элизабет, такая светловолосая и светлокожая, что казалась сделанной из бумаги, почувствовала, как напряглась Рэйчел, и стиснула ей плечо. Рэйчел расслабилась, вздохнула прерывисто и робко поцеловала Элизабет в шею.
Снаружи по тротуару промелькнуло кошачье тело. Это не могла быть та полосатая, что принадлежала соседке с верхнего этажа. Та кошка была старой, еще когда Лотто с Матильдой сюда въехали; на прошлое Рождество ей выпало голодать три дня, пока Лотто с Матильдой не связались с домовладельцем, отдыхавшим на Виргинских островах, и не попросили прислать кого-нибудь разобраться. Бедная, подгнившая Бетт. Лотто пришлось на неделю отвезти бьющуюся в истерике Матильду к Сэмюэлу, переждать, пока работали фумигаторы. Странно было видеть, как вечно невозмутимая Матильда теряет самообладание; но благодаря этому Рэйчел прозрела в ней худенькую большеглазую девочку, какой та, должно быть, была, и полюбила Матильду еще сильней. Теперь наверху обитала пара с новорожденным младенцем, вот почему эта встреча Нового года так малолюдна. Выяснилось, что новорожденные шума не одобряют.
– Чадолюбцы, – съязвила взявшаяся ниоткуда Матильда, Матильда, умевшая читать мысли.
Она рассмеялась, увидев, как изумилась Рэйчел, а затем вернулась на кухню разлить шампанское по бокалам, уже расставленным на серебряном подносе.
Лотто подумал о ребенке наверху, потом о том, какой Матильда будет беременной: стройная, как девочка, со спины, а сбоку такая, словно целиком проглотила тыкву. От этой мысли он рассмеялся. Бретелька спущена, грудь торчком наружу, полная даже для его голодного рта. Чтобы отсчет дней исходил от чистой, теплой кожи и молока – вот чего хотелось ему, именно этого.
Чолли, Даника, Сюзанна и Сэмюэл сидели притихшие, бледные и все такие серьезные. Они пришли сегодня поодиночке, без пар, этот год считался неудачным для расставаний. Сэмюэл похудел, кожа вокруг рта шелушилась. Он впервые вышел из дому после операции по поводу рака яичек и как никогда казался каким-то съежившимся.
– Кстати, о чадолюбцах. На прошлой неделе я столкнулась с девицей, с которой ты, Лотто, мутил в колледже. Как же ее звали? А, да, Бриджет, – сказала Сюзанна. – Она детский онколог. Крайне беременна. Распухла, как клещ. Выглядит очень счастливой.
– Да ни с кем я в колледже не мутил, – отмахнулся Лотто. – Только с Матильдой. И то всего две недели. А потом мы поженились.
– Не мутил, как же. Просто перетрахал всех дев в долине Гудзона. – Сэмюэл рассмеялся. После химиотерапии он враз облысел и без кудряшек стал похож на хорька. – Прости, Рэйчел, но твой брат был блудник.
– Да-да, я об этом слыхала, – сказала Рэйчел. – Эта Бриджет, кажется, бывала на ваших вечеринках, когда вы сюда переехали. Ужасно была нудная. Ведь в этой комнате толклось тогда с миллион человек. Я скучаю по тем временам.
Всплыли призраки былых вечеринок, призраки их самих, молодых и слишком беспечных, чтобы осознавать, до чего чудесные были то времена.
«Что же сталось со всеми нашими друзьями?» – задумался вдруг Лотто. Те, кто казался таким важным, как-то слинял. У самых-пресамых ботанов – близнецы в колясках, квартира в дорогом районе Парк-Слоуп, крафтовое пиво. Эрни, властитель сети баров, по-прежнему кадрит девок с сережками размером в тарелку и с татушками, как у шпаны. Натали теперь финансовый директор какого-то интернет-стартапа в Сан-Франциско. Сотня других неизвестно где. Друзья сошли на нет. Те, кто остался, – сердцевина и костный мозг.
– Не знаю, – тихонько сказала Сюзанна. – Наверное, мне нравится жить одной.
Она так и играет еще подростков в мыльных операх, и будет играть, пока ее на роль утверждают, а потом станет играть матерей и жен. Теток, которых в сценариях обозначают родственной привязкой к герою: «свекровь Джона».
– А мне до того грустно спать одной, – сказала Даника. – Надумала даже секс-куклу купить, чтобы проснуться утром, а рядом хоть кто-нибудь.
– Заведи роман с манекенщиком. Это то же самое, – сказал Чолли.
– Как же ты меня достал, Чолли, – сказала Даника, силясь не рассмеяться.
– Пой, ласточка, пой, – сказал Чолли. – Старая песня. Но мы-то с тобой знаем правду.
– Меньше минуты до того, как яичку упасть, – объявила Матильда, внося поднос с шампанским и имея в виду новогодний «шар времени» на Таймс-сквер.
Все посмотрели на Сэмюэла, который только пожал плечами. Даже рак его не сломил.
– Бедный однояйцевый Сэм, – сказал Лотто; после обеда он перебрал с бурбоном и еще не пришел в себя.
– Зато с двумя желтками, – добавил Чолли, в кой-то век добродушно.
– Сэм-полмешка, – внесла свой вклад Матильда и легонько пнула развалившегося на весь диван Лотто.
Он сел. Зевнул. Хорошо б расстегнуть пуговицу на поясе. Тридцать лет, молодость на исходе. Он почувствовал, как снова наваливается тьма, и сказал:
– Вот и все, ребята. Последний год человечества. На следующий новый год, в двухтысячном, самолеты попадают с небес, компьютеры взорвутся, атомные электростанции выйдут из строя, мы все увидим вспышку, а затем обрушится огромная белая пустота. Конец. Финита, эксперимент с человеком. Так давайте же жить! Нам остался всего год!
Он шутил; но он верил в то, что сказал. Мир без нас, думал он, станет ярче, зеленей, обильней странными формами жизни, крысами с противопоставленным, как у людей, большим пальцем, обезьянами в очках, рыбами-мутантами, строящими дворцы на дне моря. И, по большому счету, будет лучше, если за всем этим не станут наблюдать люди. Вспомнилось молодое лицо матери, мерцающее в свете свечей, за Откровением.
– «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим»[8], – шепотом проговорил Лотто, и друзья, посмотрев на него, узрели ужасное и отвели глаза.
Он разбивал бедное гребаное сердечко Рэйчел. Вся семья разбивала ей ее бедное гребаное сердечко. И Мувва, которая погребла себя заживо, одинокая и несчастная. И Салли, которая, как верный пес, трудилась не покладая рук. И Лотто, чью гордыню она была не в силах понять: только ребенок может злиться так долго, только ребенок не хочет простить, чтобы все исправить. Матильда увидела, как глаза Рэйчел налились жалостью, и тихомолком качнула головой: «Не надо, увидит».
– Тридцать секунд, – сказала она.
Из компа, конечно, пел Принс.
Чарли наклонился к Данике, подставляясь под полуночный поцелуй. Вот ведь кошмарный карлик. Чем она думала прошлым летом, когда они возвращались из Хэмптона и она поддалась и позволила облапать себя в такси? Чем? Конечно, тогда у нее был простой между двумя романами, но все же…
– Даже не думай, – отрезала она, но он нес свое:
– …ты должна мне два миллиона долларов.
– С чего бы? – спросила она.
Он ухмыльнулся:
– Двадцать с чем-то секунд до девяносто девятого года. У нас пари, что они разведутся не позже девяносто восьмого.
– Да пошел ты, – сказала она.
– Долг чести, – пожал он плечами.
– До конца года еще есть время, – сказала она.
– Двадцать секунд! – сказала Матильда. – Прощай, 1998-й, вялый и муторный год.
– Сами по себе вещи не бывают хорошими или дурными, а только в нашей оценке[9], – изрек пьяненький Лотто.
– Ты бесконечно много болтаешь пустяков[10], – сказала Матильда.
Лотто встрепенулся, открыл было рот, но тут же закрыл его.
– Видишь? – пробормотала Даника. – Они цапаются. Если кто-то из них хлопнет дверью, я буду считать это победой.
Матильда, подхватив с подноса бокал, объявила:
– Десять, – и слизнула шампанское, которое пролила себе на руку.
– Я прощу тебе долг, если ты пойдешь со мной на свидание, – сказал Чолли, горячо дохнув Данике в самое ухо.
– Чтооо? – возмутилась она.
– Я богатый. Ты злая, – пояснил Чолли. – Почему бы и нет.
– Восемь, – объявила Матильда.
– Потому, что ты мне противен, – ответила Даника.
– Шесть. Пять. Четыре, – подхватили все остальные.
Чолли приподнял бровь.
– Ладно, пойду, – вздохнула Даника.
– Один! С Новым годом! – вскричали все, и кто-то этажом выше трижды топнул ногой, и заплакал ребенок, а снаружи, сквозь ясную и прозрачную, как хрусталь, ночь донесся с Таймс-сквер слабый шум голосов, а затем близкие залпы уличного фейерверка.
– Счастливого 1999 года, любовь моя, – сказал Лотто Матильде, и давненько же они не целовались вот так! С целый месяц, пожалуй. Он и забыл уже, какие веснушки на ее хорошеньком носике. Как он мог такое забыть? Что сравнится с женой, которая изнуряет себя работой, чтобы погасить неутолимую жажду любви? Что сравнится с чувством, когда угасают мечты, подумал он, и с разочарованием?
Матильда откинула голову и вприщур на него посмотрела.
– Это будет год твоего прорыва, – сказала она. – Ты сыграешь Гамлета на Бродвее. Ты выйдешь на свою колею.
– Мне нравится твой оптимизм, – сказал он, хотя ему стало тошно.
Элизабет и Рэйчел с двух сторон целовали Сюзанну в щечки, чтобы ей не было так одиноко. Сэмюэл, конфузясь, тоже ее поцеловал, но она не ответила, отшутилась.
– Вот словно помойку вылизала, – недоуменно молвила Даника, отпихнув Чолли.
Гости ушли по двое, и Матильда, зевая, стала выключать свет, относить еду и бокалы на кухню, чтобы прибраться утром. Лотто, сидя в гостиной, смотрел, как она в спальне стянула с себя платье и в одних трусиках залезла под одеяло.
– А помнишь, как мы раньше, встретив Новый год, любили друг друга перед тем, как залечь спать? Запасались телесным благословением на весь наступающий год, – сказал он ей через дверной проем.
Он подумал, не сказать ли еще, что в этом году, кто знает, у них может родиться ребенок. Лотто готов стать родителем-домоседом. И уж точно, имей он подобающие анатомические данные, прокол с противозачаточным уже бы произошел, и маленький Лотто вовсю колотился бы в животе. Как это несправедливо, что женщинам дано испытать такую первобытную радость, а мужчинам – нет.
– Точно так же мы любили друг друга в день вывоза мусора и в день похода в магазин за продуктами, – сказала она.
– И что изменилось? – спросил он.
– Постарели, – сказала она. – Мы и так упражняемся в этом чаще, чем большинство наших женатых друзей. Два раза в неделю – это неплохо.
– Этого мало, – пробормотал он.
– Слышу-слышу, – сказала она. – Как будто я когда-нибудь отказывала тебе.
Он тяжко вздохнул, собираясь встать.
– Хорошо, – сказала она. – Если ты сейчас ляжешь, я позволю тебе мной заняться. Только не сердись, если засну.
– Черт! Очень заманчиво, – сказал Лотто и снова уселся в темноте со своей бутылкой.
Он вслушивался в дыхание жены, в ее всхрапы и удивлялся, как дошел до такого. Поддатый, одинокий, неудачник. А ведь жизнь сулила ему триумф. Как случилось, что он все растранжирил? Позорище. Тридцать лет, и еще никто. Неудача убивает не торопясь. Как сказала бы Салли, продулся-поистрепался.
[Но, возможно, таким мы любим его больше, униженным.]
В тот вечер он понял свою мать, которая погребла себя, похоронила заживо в пляжном домике. Решила сберечь свое сердце от травм, которыми чревато общение.
Лотто прислушался к тому темному, что билось под изнанкой каждого его помысла с тех пор, как умер отец. Эх, хорошо бы расквитаться со всем. Свалился бы какой фюзеляж с самолета и пришлепнул его к земле. Всего-то щелчок в мозгу – и привет, отключился. Блаженный передых наконец. Аневризмы у них в роду. Гавейна она настигла внезапно, в сорок шесть лет, так рано, а ведь все, чего Лотто хотелось, – это закрыть глаза и увидеть рядом отца, положить голову ему на грудь, вдохнуть его запах, услышать, как тепло стучит сердце. Разве он многого просит? У него был один родитель, который любил его. И Матильда давала вдоволь, но он Матильду замучил. Ее горячая вера остыла. Она отвернулась. Изверилась. Подумать только, он теряет ее, и если это случится, если она уйдет – не обернувшись, кожаный саквояж в руке, – что ему останется? Умереть.
Лотто плакал. Он понял это по холодку на щеках. Постарался не всхлипывать, не разбудить Матильду. Ей нужно поспать. Она работает по шестнадцать часов в сутки шесть дней в неделю, кормит их и оплачивает жилье. Он-то сам ничего не принес в их брак, одни лишь разочарования да грязное белье.
Он достал ноутбук, который запихнул под диван, когда Матильда велела ему прибраться перед гостями. Хотел просто войти в интернет, где бродят неприкаянные души этого мира, но зачем-то открыл чистый лист в ворде, закрыл глаза и задумался о том, что утратил.
Он утратил родную землю. Мать. То сияние, которое когда-то умел зажечь в людях, в своей жене. Утратил отца. Гавейна ценили мало, потому что он был тихий и неречистый, но он один понял ценность воды, текущей под заросшей семейной землей, он один стал добывать ее и продавать. Вспомнилась фотография молодой матери, когда она была русалкой, с хвостом, натянутым на ноги, как чулок, колышущимся в холодном ручье. Вспомнилось, как он сам опускал в родник свою детскую ручку, как она промерзала там до кости, до онемения, и как ему нравилась эта боль.
Боль! Шпаги утреннего света в глазах.
У Матильды нимб вокруг головы от сияния сосулек в окне. Она в стареньком банном халате. Видно, что ноги озябли. А лицо – что с ним такое? Что-то не так. Глаза опухли, заплаканные. Что Лотто опять натворил? Наверняка что-то гадкое. Может, оставил порно на ноутбуке, и она увидела это, когда проснулась. Может, наигнуснейший вид порно, худший из всех… Его влекло дикое любопытство, и он прыгал с сайта на сайт, которые становились все гаже, и в итоге допрыгался до чего-то совсем уже непростительного. Она бросит его. Он пропал. Толстый, одинокий неудачник, лузер, не стоящий даже воздуха, которым дышать.
– Не бросай меня, – сказал он. – Я исправлюсь.
Она подняла глаза, встала, прошлась по ковру к дивану, поставила ноут на журнальный столик и озябшими ладонями обхватила его щеки.
Халат распахнулся, обнажив бедра, похожие на хорошеньких розовых ангелочков-путти. Практически с крыльями.
– О, Лотто, – сказала Матильда, и ее кофейное дыхание смешалось с его вонью, разившей дохлой ондатрой, и он почувствовал щекот ее ресниц на своем виске. – Малыш, ты сумел, – сказала она.
– Что? – спросил он.
– Это так здорово. Даже не знаю, с чего я так удивилась, понятно же, что ты чудо. Просто мы так долго боролись!
– Спасибо, – сказал он. – Прости. Но что же случилось?
– Не знаю! Кажется, пьеса. Называется «Источники». Ты начал ее вчера ночью, в час сорок семь. Поверить не могу, что ты написал это за пять часов. Нужен третий акт. Немножко отредактировать. Я уже начала. У тебя беда с орфографией, но мы и так это знали.
Он рывком вспомнил, что что-то писал прошлой ночью. Что-то очень эмоциональное, глубоко спрятанное, что-то, связанное с отцом. Ох.
– Он все время был здесь, – сказала она, усаживаясь верхом и стаскивая с него джинсы. – Прятался у всех на виду. Твой настоящий талант.
– Мой настоящий талант, – медленно повторил он. – Прятался.
– Твой гений. Твоя новая жизнь, – сказала она. – Тебе на роду написано стать драматургом, любовь моя. Слава чертову богу, наконец мы это уразумели.
– Уразумели, – повторил он.
Они словно выступили из тумана: мальчик и мужчина. Персонажи, которые были им, но также и не были, Лотто преобразил их своим всеведущим оком. Он смотрел на них в свете утра, и его окатило энергией. В этих фигурках была жизнь. Внезапно ему захотелось немедля вернуться в тот мир, побыть в нем еще немного.
Но жена говорила:
– Привет тебе, сэр Ланселот, ты храбрый парень. Выходи и сразись со мной.
И какой же это прекрасный способ полностью пробудиться, когда жена сидит на тебе верхом и нашептывает твоему стручку, только что посвященному в рыцари, согревает его дыханием, втолковывает ему, что он – кто? Гений. Но Лотто всем нутром знал это издавна. С тех пор как маленьким выступал, стоя на стуле, заставляя взрослых мужчин краснеть и точить слезы. И все ж таки до чего приятно получить этому подтверждение, да еще в такой форме. Под золотым потолком, от золотой жены. Что ж, тогда ладно. Станет он тебе драматургом.
Привиделось, как Лотто, тот Лотто, каким, как ему думалось, он был, встает, тяжело дыша, в гриме, в колете поверх насквозь пропотевшего дублета, и внутренний его рев рвется наружу, когда зрители разражаются овацией. Призраком, покинувшим свое тело, он отвешивает изысканный поклон и навсегда исчезает, пройдя сквозь закрытую дверь квартиры.
Он исчез, и там после него вроде ничего уже не могло остаться. Но все же осталось. Новый Лотто, отдельный от старого, под женой, которая ползет лицом по его животу, сдвигает перемычку своих трусов-бикини, принимает его в себя. Его руки распахивают ее халат, обнажая грудки, похожие на птенцов, а подбородок ее вскинут к потолку, в котором смутно отражаются их тела. И она не молчит.
– Все, – говорит она, в такт словам стуча кулаками в его грудь, – теперь ты у нас Ланселот. Больше никаких Лотто. Лотто – детское имя, а ты не ребенок. Ты, черт возьми, гений, ты драматург, Ланселот Саттеруайт. Мы свое возьмем!
Если это к тому, что жена снова начнет улыбаться ему сквозь свои светлые ресницы и будет скакать на нем, как призовая наездница, то тогда он, конечно, справится. Станет тем, кем она хочет. Он больше не актер-неудачник. Он драматург. Перспективный. Такое чувство, точно обнаружил окошко в темном чулане, где сидел взаперти. И еще что-то возникло внутри вроде боли. Чувство утраты. Закрыв глаза на боль, он двинулся в темноте к тому, что только одна Матильда видела ясно.
6
У. Шекспир «Кориолан», акт II, явл. I. Перевод Ю. Корнеева.
7
У. Шекспир «Много шума из ничего», акт III, явл. I. Перевод Т. Щепкиной-Куперник.
8
Откровение Иоанна Богослова, 17:6.
9
У. Шекспир «Гамлет», акт II, явл. II. Перевод Б. Пастернака.
10
У. Шекспир «Венецианский купец», акт I, явл. I. Перевод Т. Щепкиной-Куперник.