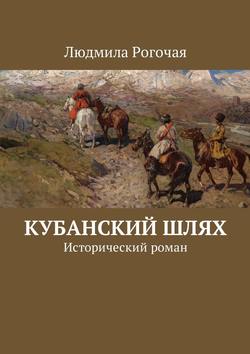Читать книгу Кубанский шлях. Исторический роман - Людмила Рогочая - Страница 14
К воле
Отец Агафон
ОглавлениеВечерняя прохлада легла на луга, старый яблоневый сад, просторный монастырский двор…. Отслужив вечерю, игумен вышел на свежий воздух, присев на скамью возле храма, задумался. «Камо пойду от скверного духа братии и от лица их, камо бегу? Ей, Господи, все сквернословы, особенно диакон – отец Агафон. Он вор и разбойник первостепенный: в Успенском соборе в образе Успения выдернул жемчуг, в венце нет камня голубого, на иконе Тихвинской Божьей матери не оказалось перлов, серебряное кадило тоже пропало…. Его рук дело. Ну, а как ревизия, чего доброго, нагрянет», – размышлял настоятель монастыря третьего класса отец Варавва. Он постоянно бил поклоны, молился за братию, за себя Господа просил, дабы не уволили его, злосчастного игумена, за непорядочное управление сей обителью. А как управляться, если монастырь был исправительным20, для провинившихся священнослужителей – кто за развращённость ума и сердца, кто за прелюбодейство, кто за воровство. Не монахи – сущие аспиды, беглые солдаты, а не святые отцы. Неисправимые грешники. Им нужен не отец Варавва, а хороший унтер с большой дубинкой. Кнут и цепи им, а не доброе слово пастыря, Господи, прости.
Правда, цепи в монастыре были заведены ещё тридцать лет назад, когда монах Варсанафий ограбил все монастырские кружки для подаяний и поджёг питейный дом в слободке. Тогда кузнецу заказали сделать цепи, укрепить их на столбе, подальше от храма, и время от времени, провинившиеся отцы, вслед за Варсанафием, приковывались к столбу и наказывались розгами, а то и кнутом. Однако перемен в их поведении чаще всего не происходило.
«Закоренелые безобразники», – вздохнул игумен и, перекрестившись, начал ночной обход келий. Почти все монахи почивали после неумеренных возлияний, и только отцы Акакий и Феофил с воспалёнными очами и рдяными лицами, резались в карты на интерес, не скупясь на безбожные выражения. Сие было делом привычным, и Варавву не очень беспокоило. А вот, что иеродиакона Агафона опять не было на месте, вызвало у игумена раздражение. Хотя сего следовало ожидать.
Накануне поздно вечером в монастырь, внезапу, яко тать в нощи, явился архимандрит – отец Вениамин. Он пришёл навеселе. Видно, гостил неподалёку в помещичьей усадьбе, выпил лишку, засвербело в одном месте чувство долга, и архимандрит решил проверить святость обители. И надо же именно той, где игуменом он, отец Варавва. А ведь поблизости ещё два монастыря: у Святого источника и в древних печерах. Прибыв, архимандрит собрал полупьяных монахов и требовательно вопросил, читала ли почтенная братия сего дня поучения святых отец. Не добившись внятного ответа, отец Вениамин решил восполнить этот досадный просчёт.
Выбор показать свою учёность пал на самого нерадивого иеродиакона. Иеродьякон Агафон был мужичина видный – огромного роста, с короткими руками-кувалдами и круглыми чёрными глазами с острым взглядом. Он возвысился над архимандритом и, не смиряя своего трубного баса, дерзко, без чину, прорычал:
– Аз есмь глазами слаб, очков же не иму.
Архимандрит потребовал Четьи Минеи и дал отцу Агафону свои очки. Диакон, возложив их на нос, по слогам, с заиканьем, запинками и длинными остановками, с трудом одолел одну страницу, чем сильно разгневал отца Вениамина, и тот в объездном журнале записал замечание игумену, отцу Варавве. Кстати, далеко не первое. Он, в свою очередь, наложил на провинившегося диакона епитимью трудную: три дня беспрерывного моления в келье и по тысяче поклонов. И вот, сбежал, аспид! Игумен был вне себя от гнева, а гнев, как известно, тяжкий грех, который ему отмаливать и отмаливать.
На следующий день, в воскресенье, к отцу Варавве пришёл сиделец с жалобою опять же на отца Агафона. Что он в субботу, де, был в кабаке и просил в долг вина у его жены. Она в долг ему не дала, так как он ещё за прошлый раз ещё не расплатился. Тогда отец Агафон вскочил за стойку, изодрал на кабатчице рубаху и покусал несчастную.
– Позвать иеродиакона, – сердито приказал игумен послушнику.
Но тот Агафона не нашёл, и только к обедне мужики привезли его в монастырь из слободки, в телеге, с подранной харей и мертвецки пьяного. Назавтра он не явился к заутрене, а к обедне поспел заново пьяным. Очевидно, ещё что-то украл из монастырского имущества и променял на вино.
Отец Варавва распорядился после обедни при всей братии посадить нарушителя монастырского порядка на цепь. Сидя на цепи, Агафон рычал, аки дикий зверь, и делал страшные рожи, чем веселил монахов и жителей слободы, собравшихся на заднем дворе вокруг столба. Представление продолжалось до самых сумерек, пока Агафон не задремал, повиснув прямо на цепях.
«Ах, Агафон, Агафон…. Страшило монастырское. Какой срам! Его именем уже детей в слободе пугают. Народ боится глазами с ним встретиться, не то, что разговаривать. Шарахаются, аки от гиены огненной. А обители какое поношение!», – сокрушался игумен, окидывая взглядом огромную тушу дьякона.
Последние дни стояли жаркие. В святой обители праздновался день святых апостолов Петра и Павла. Агафон, уже снятый с цепей, с такой радости сильно напился, пошёл на скотный двор и стал беспричинно тягать за волосы молодого послушника. А когда тот вырвался и убежал, полез к пастуховой жене на квартиру. Она, дрожа от страха, закрылась на щеколду. Диакон, выхватив из ограды тынину, ударил ею в окно, которое разлетелось в щепы. При этом он богохульствовал и сквернословил.
Молодица схватила ребёнка и хотела, было, бежать. Но отец Агафон стал бить её по лицу, потом по спине тыниною до тех пор, пока та изломалась. Тогда он, откинув плачущего дитяти в сторону, схватил пастухову жену за волосы, бил и таскал по земле. Как рассказывал послушник, притаившийся за овчарней, «бысть вопль и стенания несчастной до шестого часу». Понадобилась сила трёх человек, чтобы схватить отца Агафона, скрутить вервием и опять посадить на цепь.
Баба же, когда слободяне занесли её в горницу, уже чуть дышала. Тут же позвали знахарку, но если несчастная отдаст Богу душу, Агафону не миновать каторги. Неизвестно, понимал ли он это, но, будучи в цепях, на этот раз притих и даже как будто задумался.
Тут зазвонили к ранней обедне, и началась служба, которую отцы отслужили с удивительным тщанием и особым рвением, поскольку не хотели сменить на цепи иеродиакона.
После обедни игумен собрал братию у столба с Агафоном и в назидание велел того прилюдно выпороть. Когда диакона огрели кнутом в третий раз, он разъярился так, что вырвал крюки крепления и, пронёсся по обители, аки ветер, сбив по пути кастеляна, отца Мафусаила, который упав, по слабости и старости испустил дух. Затем диакон выскочил за врата, и… поминай, как звали.
– Ну, всё, – подумал отец Варавва, – кому Рождество Христово, а мне – Успенье. Можно сказать, что места я уже лишился. Спаси, Господи, – истово перекрестился неудалый пастырь.
20
Использование монастырей в пенитенциарных целях (то есть как мест наказания и исправления преступников, нарушителей общественного порядка) было распространённым явлением в истории России, корнями уходившим еще в православную традицию Византии. Сам термин «пенитенциарный» в переводе с латинского означает «покаянный, исправительный». Он указывает на особенности церковного наказания по месту жительства или в условиях изоляции (в монастырях) в целях приведения преступника к раскаянию и исправлению. Использовало ссылку в монастырь и государство, законодательно оформив ее правовое поле в XVIII веке и заметно усилив в ней карательную сторону. В документах Государственного архива о ссылке в монастыри настоятелей за «упущения по службе», других духовных лиц и семинаристов за плохую учёбу и лень.