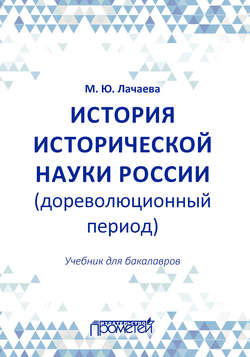Читать книгу История исторической науки России (дореволюционный период): учебник для бакалавров - М. Ю. Лачаева - Страница 10
Раздел 1
Развитие исторической мысли древней Руси IX–XVII веков
Глава 2
Концептуальное осмысление древней Руси ее современниками (до начала XIII века)
2.3. Круг чтения древнерусского автора. Самоидентификация и взаимодействие культур
ОглавлениеРусская историография в XI–XII вв. испытала воздействие переводной, прежде всего, византийской литературы. Принятие православия стало мощным стимулом для ознакомления Руси с византийской культурой[59]. Важную часть древней восточнославянской книжности (по количественному составу, идейной значимости и идейно-религиозному влиянию) составили болгарские переводы[60]. Они соединяли литературу и культуру Древней Руси и славянских стран с их историческими предшественниками – культурой античной Греции и Рима, христианской Византии, и стран Древнего Востока – Египта, Палестины, Месопотамии. В значительной степени эта литература связывала славянский мир с культурой народов Средиземноморья, христианских народов Востока и Запада. Эти памятники «давали славянам и русским возможность исторического самоосознания, нахождения своего места в мировой истории»[61].
Проблема зарубежного влияния (византийского, болгарского и шире – югославянского, европейского и др.) включает объяснение вызвавших его причин и ставит вопрос о внутренней потребности, подготовленности и способности русской культуры к восприятию, осмыслению и переработке иностранного влияния.
Явления, характеризующие взаимовлияния культур, не следует смешивать с явлениями, вызванными «единством их происхождения и возможной синхронностью их развития»[62]. Единство славянским культурам придавала языковая и конфессиональная общность. Объединяющую роль играла древнеславянская азбука – кириллица. Она составляла основу древнерусской и древнеболгарской письменности и предопределяла культурную общность русского и болгарского народов.
Цельность общеславянской письменной традиции придавал единый «наднациональный» церковнославянский язык[63]. По тонкому замечанию Н. Н. Дурново (1876–1937), в конце X в. и в XI в. люди читали, молились и служили на церковнославянском языке на Руси в Новгороде и Киеве; в Болгарии в Преславе и в Охриде; в Великой Моравии в Велеграде; в Чехии на Сазаве. Крупнейшим литературным переводческим культурным центром славянских народов была болгарская Преславская книжная школа (886–972), созданная одной из первых учениками Кирилла и Мефодия, представителями которой были Иоанн Экзарх Болгарский и Черноризец Храбр.
Зародившись как церковно-литургическая, «письменная традиция» имела основанием своего единства Типикон – книгу православной литургики, содержащую устав богослужения. Вследствие религиозных основ старославянская и древнерусская письменность базировалась на четкой и логичной структуре (системе) типикарных чтений, которая предполагала жанровое разнообразие. Его составляли три типа чтений – панегирика (славы и апологии), поучения (толкования-комментарии, экзегезы), назидательные биографии (агиобиографии) и истории, определенным образом показывающие исторических лиц и события в соответствии с принципом: своего рода тезис, доказательство, вывод[64]. На формирование творческого метода оказали влияние первые переводные произведения на Руси, которыми стали уставные чтения.
Сформировавшаяся тенденция оказалась устойчивой, о чем свидетельствует состав рукописей в библиотеках двух старинных монастырей: Рыльского в Болгарии и Соловецкого в России. Их библиотеки формировались долгие века[65]. Общие для всех славянских литератур типикарные памятники в рукописях, чей возраст древнее XVII в., библиотек этих монастырей, составляют соответственно 90 и 75 % всего состава древних памятников [66]. Сложившаяся традиция во многом объясняет характер восприятия русскими книжниками переводной литературы. <…> «отцы церкви», крупнейшие богословы и проповедники как бы стояли над национальными различиями и политическими границами, являлись учителями и наставниками всех христиан; хроники сообщали не об истории отдельных стран, а об истории «Вселенной», истории божественного провидения, обращавшегося благом или наказанием в разные периоды для разных народов», писал О. В. Творогов[67].
Точного повторения греческого православия на Руси не было. Древнерусские авторы осуществляли собственный выбор предпочтений, в частности, трудов Святых Отцов[68]. И. П. Еремин (1904–1963) считал, что ни один из значительных византийских авторов XI–XII вв. не привлек внимания древнерусских авторов. Современниками древнерусских книжников были такие византийские авторы, как: Лев Дьякон, Константин Багрянородный, Симеон Метафраст, Лев Мудрый, Феодор Одесский. В сохранившихся рукописях И. П. Еремин не нашел свидетельств об их чтении древнерусскими авторами. Из произведений патриарха Фотия было переведено только «Слово на Вербницу о Лазаре», да и только потому, что оно читалось в составе Минеи, т. е. было утверждено авторитетом Типикона[69].
Таким образом, в древнерусской литературе, большим авторитетом пользовалась патристика – сочинения римских и византийских богословов III–XI вв., почитавшихся как «отцы церкви» (с греч. патер – отец, отсюда и название их произведений – патристика). Отношение к историческим событиям и людям в них выстраивалось с точки зрения Вечности, надличностного и над-общественного смыслов.
Наиболее сложным считается вопрос о соотношении и сочетаниях разных культурных влияний. Это связано с тем, что иностранное влияние могло сказываться на Руси как непосредственно, так и опосредованно. Византийская литература проникала на Русь не только в греческих оригиналах, но также в болгарских и сербских переводах. Таким образом, византийское влияние проявляло себя опосредованно, через южных славян. Первое южно-славянское влияние (второе относится к XIV–XV вв.) на письменную традицию Руси имело характерные черты. Одно из его направлений, которое выражало процесс византийско-болгарско-русского культурно-переводческого движения, было особенно плодотворным до 1018 г., т. е. до завоевания первого Болгарского царства Византией.
Это время стало рубежом в отношениях между греческим и славянским мирами, с последующим установлением византийского контроля над Болгарией, происходившим в течение XI–XII вв. и завершившимся к 1185 г.[70]
Русь стала играть роль хранительницы южнославянских памятников, многие из которых были уничтожены греческим духовенством в ходе двухвековой эллинизации, последовавшей после завоевания Болгарии. Духовное наследие Первого Болгарского царства сохранилось почти исключительно на Руси, куда бежали представители болгарского духовенства, боярства и интеллигенции, спасая, в том числе, и произведения литературы.
Среди сохраненных текстов было сочинение «О письменех» или «Сказанiе, како състави святыи Курил Словеном писмена противоу ѩзыкоу» болгарского монаха Черноризца Храбра. Автор жил в конце IX – начале Х в., хорошо знал греческую письменность. Процесс принятия письменности славянами Храбр представил следующим образом: славяне до принятия христианства не имели азбуки, а пользовались черточками и зарубками. После принятия христианства и до Кирилла-философа славяне были вынуждены пользоваться латинскими и греческими буквами «без устроения». Константин-философ, нарицаемый Кириль, «сотвори имъ писмена тридесѧте и осмь, ова оубо по чиноу гръчьскыхъ писменъ, ова же по Словеньстеи речи».
С конца XII в. до середины XIII в. с восстановлением самостоятельности (второго) Болгарского царства вновь оживляются русско-южнославянские литературные связи. Возрождение славянской литературной традиции на Балканах нашло опору в литературе Древней Руси. Многие исчезнувшие на Балканах южнославянские памятники были возвращены Русью не только болгарам, но и сербам. Среди возвращенных памятников были и исторические, в частности «Историческая Палея» – одна из разновидностей Палеи[71] (в списках именуется «Книга бытиа небеси и земли»). Палея историческая излагает библейскую историю от сотворения мира до времени царя Давида. В отличие от Палеи толковой в ней нет толкований и полемических отступлений, но содержится больше исторического материала.
Русские книжники, как и их болгарские предшественники, не касались современной им светской византийской литературы. Расширение их интересов проявилось во внимании к памятникам, известным культурному миру Средневековья и усвоенным русскими через греческое посредство. Среди них: «История иудейской войны» Иосифа Флавия, «Александрия» – жизнеописание Александра Македонского и др.[72]
Содержавшиеся в них сведения исторического и географического характера расширяли кругозор древнерусского читателя во времени и пространстве. Русские книжники переводили с греческого и старославянского, а также с сирийского (повесть об Акире Премудром) и древнееврейского (библейские книги, еврейскую средневековую хронографию «Иосиппон», написанную в IX или X вв., апокрифические сказания) [73].
Болгарская и византийская литература знакомила русских с античной культурой. Узнавание славянскими странами, в том числе и Древней Русью, античного наследия осуществлялось, в частности, с помощью «Шестодневов» – особого жанра церковно-историографической христианской литературы, объединенного темой толкования Книги Бытия и содержащего циклы проповедей на темы рассказа Библии о сотворении мира. Материал был сюжетно разделен на шесть частей – по числу дней творения.
На Руси наибольшей популярностью пользовался «Шестоднев» болгарского просветителя X в. Иоанна Экзарха[74]. При его написании Иоанн использовал другие «Шестодневы»: Василия Великого, Феодорита Кирского, Севериана Гавальского.
«Шестоднев» Иоанна был создан в конце IX – начале X вв. в Болгарии, откуда вместе с другими произведениями церковной литературы постепенно распространился в христианизированном славянском мире. Тексты Иоанна воспроизводились книжниками Сербии, Хорватии и древнерусских земель. В рукописной книжной традиции этот памятник существовал до XVIII в. В 1824 г. он был издан К. Ф. Калайдовичем.
Не позднее XI в. Шестоднев попал на Русь и оказал заметное влияние на духовную жизнь страны. Влиянием Шестоднева отмечено творчество Владимира Мономаха, содержание Хронографического свода XIII в. Однако пик популярности труда Иоанна Экзарха пришелся на XV–XVI вв.
«Шестоднев» Иоанна Экзарха стал общеславянским религиозно-философским и богословским памятником, в котором излагалось православное толкование библейского учения и мироздания. Иоанну была известна древнегреческая философия, представителей которой он критиковал: Демокрита, Диогена, Парменида и др. Учение Аристотеля о причинах и первоначалах всего сущего Иоанн излагал с христианских позиций. В вопросах устройства мироздания экзарх придерживался воззрений Аристотеля и Птоломея и помещал Землю в центр Вселенной. Иоанн также изложил учение о климатических зонах.
«Шестоднев» Иоанна экзарха болгарского считается одним из самых поэтических памятников мировой литературы. Он оказал глубокое влияние на русскую литературу XI–XVII вв. «Восхищение мирозданием захватывало, заражало, властно подчиняло себе не одного русского писателя, воспитывало любовь к природе и ко всему живущему», писал Д. С. Лихачев[75]. Рефлексия переживаний, вызванная чтением «Шестоднева» содействовала формированию у древнерусского книжника шкалы системы ценностей.
«Шестоднев» Иоанна, а также другие памятники болгарской письменности, такие как «Написание о правой вере» Константина-Кирилла Философа, «Златоструй» царя Симеона, «Учительное Евангелие» Константина Преславского, «Сказание о письменах» Черноризца Храбра получили широкое хождение в Киевской, а позднее в Московской Руси.
Легкость восприятия византийской православной книжности южными и восточными славянами отчасти объясняется тем, что византийская культура была многонациональной, а в ее создании участвовали, в том числе, и славяне1. Славянские страны – Великая Моравия, Болгария, Сербия приняли христианство и христианскую книжность. Вместе с христианской книжностью Древняя Русь приняла и старославянский язык, в основе которого лежал солунский диалект болгарского языка. Во второй половине IX в. на нем говорили святые равноапостольные Кирилл и Мефодий «учители словенски». Первоучители использовали его для составления славянской азбуки, перевода греческих библейских и обрядовых книг и создания первых оригинальных славянских сочинений. В «Повести временных лет» под 898 г. летописец подчеркивал близость старославянского языка древнерусскому: «а словяньскый язык и рускый одно есть» [76].
Овладение славянской книжностью в Древней Руси считалось задачей государственного значения.
После крещения Владимир учредил школу в Киеве (ПВЛ, под 988 г.). К середине XI в. книжное дело в Киеве и Новгороде уже процветало[77]. Культурными центрами были монастыри. Древнерусские монахи непосредственно и активно участвовали в международном культурном информационном пространстве. Они заинтересованно переводили православную литературу. Так, в период княжения Ярослава Мудрого на Афоне функционировал русский монастырь, который был крупным религиозно-культурным книжным центром. В нем шла напряженная духовная и культурная жизнь. На древнеславянский язык были переведены «Шестоднев» Василия Великого, «Источник знания» Иоанна Дамаскина, проповеди и толкования Священного писания Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Анастасия Синаита.
Общность и культурную преемственность Византии, Болгарии и Древней Руси отразил «Симеонов сборник» («Изборник Святослава» 1073 г.), который был переводом византийского памятника IX в., известного под названием «Спасительной книги…».
В X в. в Болгарии был сделан перевод, послуживший основой для русского рукописного сочинения. Получившее распространение на Руси, оно стало своеобразным энциклопедическим пособием, содержащим религиозные и общественно-образовательные сведения[78].
Среди книг, привезенных на Русь, были и византийские хроники. Хрониками или хронографами называются произведения историографии, излагающие всемирную историю. В XI–XII вв. на Руси были известны переводы византийских хроник: «Хроника Георгия Амартола» и «Хроника Иоанна Малалы». Также переводится хроника Георгия Синкелла, секретаря константинопольского патриархата, охватывающая всемирную историю от Адама до времени римского императора Диоклетиана (начала IV в.). Однако византийские хроники привлекались русскими летописцами не на этапе возникновения русского летописания, а позднее, в процессе его развития.
Сыгравшая определенную роль в развитии оригинального русского летописания и русской хронографии «Хроника Георгия Амартола» была переведена на славянский язык в XI в. Самый ранний известный русский список был написан в Твери на рубеже XIII–XIV в.
Составителем «Хроники» был живший в IX в. византийский монах Амартол, по-гречески – грешник, что являлось традиционным самоуничижительным эпитетом монаха.
В «Хронике Георгия Амартола» излагается период мировой истории от сотворения мира до восстановления православия и иконопочитания поместным Константинопольским собором 842/43 гг. «Хроника» состоит из краткого вступления и четырёх книг. В них после сотворения мира последовательно рассказывается: библейская история, характеризуются вавилонские и персидские цари, римские императоры (от Юлия Цезаря до Константина Хлора), и после них – императоры Византии (от Константина Великого до Михаила III).
Вначале «Хроника» была доведена до событий середины IX в. Позднее, еще на греческой почве, ее дополнили извлечением из «Хроники Симеона Логофета». Таким образом, повествование, было доведено до середины X в.
Хрониста интересовала главным образом церковная история. Собственно исторические события изложены кратко. Только в заключительной части, принадлежащей перу продолжателя Амартола – Симеону Логофету, отражена сложная политическая жизнь Византии IX–X вв.
Иоанн Малала, по-сирийски Иоанн Ритор (Оратор) жил в 491(?) – 578 гг. В виду особого внимания, проявляемого Иоанном к событиям в Атиохии (на севере античной Сирии)[79], в IV–VII вв. входившей в состав Византийской империи, в нем предполагают уроженца этой местности. Вывод о переселении Иоанна в 530-е гг. в Константинополь делается на основании того, что в последних главах хронографии Малалы описываются события, связанные с византийской столицей. В 13–18 книгах речь идет о римских и византийских императорах от Константина Великого до Юстиниана I.
«Хронику Иоанна Малалы» перевели на старославянский язык предположительно в X в.[80] Исследователь памятника В. М. Истрин (1865–1937) собрал по крупицам из хронографов и летописцев текст славянского перевода хроники. Он допускал возможность принадлежности переводчика Малалы к «школе» болгарского просветителя X в. Иоанна экзарха. М. И. Чернышева установила, что переводчик хроники на старославянский язык пользовался списком, содержащим более полный греческий текст, чем тот, который дошел до нашего времени в рукописи, хранящейся в Оксфорде[81].
Иоанн Малала доводит в «Хронике» события до VI в., не рассматривая их взаимную зависимость, причины и следствия. Текст обрывается на 563 году, в нем излагаются античные мифы, рассказывается о Троянской войне. Малала характеризует античную историографию и языческую мифологию с позиций христианского мировоззрения. Извлечения из славянского перевода «Хроники Иоанна Малалы» отмечены в «Повести временных лет». Под 1114 годом (лето 6622) при описании чудес повествуется о случаях из прошлого, взятых у Малалы. Древнерусский книжник, используя свободный пересказ переводчиком нескольких глав из 1-й, 2-й, 4-й книг хронографии, отождествляет древнегреческих богов с языческими божествами славянского пантеона[82].
Широкое распространение на Руси получили переводные жития святых. Исследователи выявили до 50 переводных житий в древнерусской литературе[83]. Это назидательные биографии (агио-биографии), поучительные для христиан примеры жизни святых, определенным образом показанные, содержали немало исторических рассказов, сведений об исторических лицах и событиях, изложенных в соответствии с логикой: своего рода тезис – доказательство – вывод[84]. Они решали воспитательную задачу силой назидательного примера.
В ранней славянской литературе почетное место занимал культ св. Климента[85], почитаемого в православии как одного из первых христианских проповедников в русских землях.
По преданию, за отказ принести жертву языческим богам около 98 года он был сослан из Рима на каторгу в Крым в Инкерманские каменоломни (район современного Севастополя), где проповедовал. Во время очередного гонения на христиан император Траян, прибыв в Крым, приказал казнить Климента. Ему привязали на шею якорь и бросили в море. Климент встретил мученическую смерть. В христианской символике якорь связывается с Климентом Римским. Якорь является символом Санкт-Петербурга как морского порта.
Часть мощей Климента Римского, согласно легенде записанной епископом Веллери Гаудерихом и поднесенной папе Иоанну VIII (умер в 882 г.)[86], была перенесена в 867 г. или в 868 г. из Херсонеса в Рим Константином и Мефодием. Глава Климента хранилась в Корсуне, откуда князь Владимир Святославович перенес ее в Киев[87]. В сознании древнерусских людей перенесение мощей Климента в Киев Владимиром соотносило значение этого русского князя с первоучителями славян.
Славяне составляют Житие Климента, Слово об обретении его мощей, проложные сказания. Клирик Десятинной церкви (которую называли храмом Климента, поскольку там находились мощи св. Климента) написал «Чудо св. Климента о отрочати». Через притчу об отроке проводится мысль о спасении русского народа, которому покровительствует Климент, пришедший из Рима через Корсунь в Киев[88]. В середине XI и середине XII вв. представление о церковной независимости Руси от Византии связывалось с именем Климента.
В сферу международных культурных связей Древней Руси входили контакты и с книжниками Западной Европы. На Руси появились сделанные в Чехии в конце X–XI вв. старославянские переводы с латинского языка церковно-канонических памятников. Также был известен цикл легенд о чешском князе Вячеславе (Вацлаве), проложное житие чешской княгини Людмилы (бабушки Вацлава). Русская летопись восприняла из западнославянских источников «Сказание о переложении книг» (ПВЛ, под 898 г.), представляющее рассказ о деятельности Кирилла и Мефодия. Киево-Печерский монастырь поддерживал культурные отношения с чешским Сазавским монастырем (1032–1097), поддерживавшего славянскую традицию письма и интенсивно ведущего переводческую деятельность. Там хранились частицы мощей Глеба и «его товарища» (очевидно, Бориса), перенесенные туда из Киева. Однако «в конце XI в. старославянско-православная традиция в Чехии была окончательно подавлена латинско-католической церковью и культурно-литературное общение Чехии с Киевской Русью прекратилось»[89].
Свидетельством взаимосвязи и взаимовлияния северной (скандинавской) литературы и древнерусской после начала интенсивных контактов русских князей с варяжской аристократией и привлечения «варяжской дружины» является история о «вещем Олеге», в которой сплавились воедино русские известия с известиями «Орвар Одд саги».
Роль переводной литературы в древнерусской культуре Д. С. Лихачев характеризовал следующим образом: «Переводы в ряде случаев предшествовали созданию оригинальных произведений того же жанра. В целом Русь стала читать чужое раньше, чем писать свое. Но не следует видеть в этом какое-то свидетельство «неполноценности» культуры восточных славян. Все европейские средневековые государства «учились» у стран, наследниц многовековой античной культуры – культуры Древней Греции и Рима. Для Руси важнейшую роль в этом отношении сыграли Болгария и Византия. Подчеркнем также, что восприятие чужой культуры, с ее многовековыми традициями, было у восточных славян активным, творческим, отвечало внутренним потребностям развивающейся Древней Руси, стимулировало возникновение оригинальной литературы»[90].
Византийское влияние не было «ни всеобъемлющим, ни стабильным»[91], переводные книги, расширив круг отвлеченных представлений древнерусских авторов, вошли в плоть и кровь восточнославянской книжной культуры. Идеи, пришедшие на Русь вместе с культурным наследием Византии и южных славян, пережили глубокую трансформацию, «начинали как бы новую жизнь», приобретали «иные черты под воздействием национальных творческих начал»[92].
Христианское мировоззрение оплодотворило творческие силы Древней Руси, способствуя их пробуждению и накоплению духовного опыта. Сложившиеся под влиянием православной культуры условия содействовали глубокому самостоятельному осмыслению древнерусскими книжниками отечественной истории.
59
Удальцова 3. В. Культурные связи Византии с Древней Русью // Проблемы изучения культурного наследия. – М., 1985. – С. 15.
60
Это были переводы Библии, богослужебных книг, поучений, исторических книг, Кормчей книги и т. д.
61
Мещерский Н. А. Источники и состав славянорусской переводной письменности IX–XV вв. – Л., 1978. – С. 4–5.
62
Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. – М., 1986. – С. 7.
63
Левшун Л. В. О слове преображенном и слове преображающем. Теоретико-аналитический очерк истории восточнославянского книжного слова XI–XVII веков. – С. 136.
64
Левшун Л. В. О возможной систематике творческих методов в средневековой восточнославянской книжности // Христианство и русская культура. – Сб. 4. – СПб., 2002. – С. 4.
65
Рыльский монастырь был основан в X в. Соловецкий – в первой трети XV в.
66
Левшун Л. В. О слове преображенном и слове преображающем: теоретико-аналитический очерк истории восточнославянского книжного слова XI–XVII веков. – С. 137.
67
Творогов О. В. Принятие христианства на Руси и древнерусская литература // Введение христианства на Руси. – М., 1987. – С. 142.
68
Святые Отцы – православное название Отцов Церкви – почетный титул, который использовался с конца IV в. по отношению к наиболее выдающимся церковным деятелям и писателям прошлого, пользовавшихся наибольшим авторитетом.
69
Еремин И. П. О византийском влиянии в болгарской и древнерусской литературах IX–XII вв. // Еремин И. П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы. – Л., 1987. – С. 220–221. Левшун Л. В. О слове преображенном и слове преображающем. Теоретико-аналитический очерк истории восточнославянского книжного слова XI–XVII веков. – Минск, 2009. – С. 137–138.
70
По времени это совпало с неудачным походом русских князей на половцев, предпринятым новгород-северским князем Игорем Святославичем в 1185 году и описанным в «Слове о полку Игореве» русским автором, привлекавшим творчество Бояна XI в. (подробнее см.: гл. 1.4).
71
Палея – книга, содержащая краткое изложение ветхозаветных событий.
72
Робинсон А. Н. Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья XI–XIII вв. – С. 58.
73
Там же. – С. 59–60.
74
Текст «Шестоднева» Иоанна экзарха записали в Болгарии в IX – начале X в. На Руси он был переведён в XI в.
URL: http://likhachev.lfond.spb.ru/Articles/slo.htm
75
Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. – Л., 1986. – С. 16.
76
Робинсон А. Н. Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья XI–XIII вв. – С. 52–53.
77
Там же. – С. 54.
78
Абрамов А. И. Роль Византии и Болгарии в крещении Руси // Введение христианства на Руси. – М., 1987. – С. 88–89.
79
Сирийская Антиохия (ныне г. Антакья в южной Турции) считалась третьим по значимости городом Римской империи после Рима и Александрии.
80
До настоящего времени остаются вопросы: когда и где был сделан перевод – в Болгарии или на Руси; в X в. или XI в.; когда и в каком виде, если хроника была переведена в Болгарии, она появилась на Руси и др.
81
URL: http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=-
wpJmNwZJwE%3d&tabid=2283
82
«Хронография» Иоанна Малалы широко использовалась более поздними авторами (Иоанн Эфесский, Иоанн Антиохиец, Иоанн из Никиу), с ними нередко путали Малалу. После XI в. ссылки на него византийских авторов исчезают.
83
В том числе: Алексея Человека божия, Антония Великого, Евфимия Великого, Иоанна Кущника, Нифонта Констанцского, Пахомия Великого, Дмитрия Солунского и др.
84
Левшун Л. В. О возможной систематике творческих методов в средневековой восточной книжности. // Христианство и русская литература. – Вып. 4. – СПб., 2002. – С. 4.
85
Климент I (жил в первом веке) – первый небесный покровитель русских земель, четвертый Папа Римский, один из мужей апостольских, крещен и рукоположен в епископы св. апостолом Петром, один из первых христианских мучеников. Принял смерть в Херсонесе Таврическом (Боспорское царство, Римская империя). Море стало отступать. Около 861 г. мощи св. Климента были обретены святыми равноапостольными просветителями Кириллом и Мефодием.
86
Сохранилась в обработке Льва Остинского (XII в.)
87
Сказания о начале славянской письменности. – М., 1981. – С. 117–119.
88
Введение христианства на Руси. – М., 1987. – С. 33.
89
Робинсон А. Н. Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья XI–XIII вв. Очерки литературно-исторической типологии. – М., 1980. – С. 62–63.
90
История русской литературы X–XVII веков / под ред. Д. С. Лихачева. – М., 1980. – С. 36.
91
Удальцова 3. В. Культурные связи Византии с Древней Русью // Проблемы изучения культурного наследия. – М., 1985. – С. 15–16.
92
Там же. – С. 16.