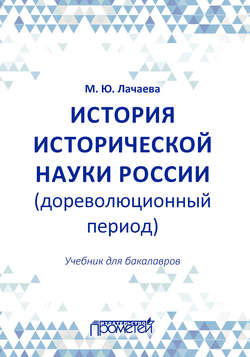Читать книгу История исторической науки России (дореволюционный период): учебник для бакалавров - М. Ю. Лачаева - Страница 13
Раздел 1
Развитие исторической мысли древней Руси IX–XVII веков
Глава 2
Концептуальное осмысление древней Руси ее современниками (до начала XIII века)
2.4. Русские летописи как историографический источник: Повесть временных лет
ОглавлениеРазвитие древнерусской письменности в первой половине XI в. и обилие переводных произведений, прежде всего византийских и болгарских, стали той питательной средой, в которой зародилось отечественное летописание. Появление первого летописного свода ученые датируют по-разному.
По мнению Б. А. Рыбакова и Л. В. Черепнина, свод возник в конце X в. Другой известный историк – М. Н. Тихомиров и его ученики – А. Г. Кузьмин и В. И. Буганов – считали, что речь может идти о конце X в. – начале XI в.
А. Н. Насонов полагал, что летописание возникло в эпоху Ярослава Мудрого[93]. Д. С. Лихачев в качестве времени появления летописания называл 1040-е гг. Очевидно, что с 1030-х гг. на Руси ведется активная работа по систематизации устных и письменных известий, свидетельств и преданий о событиях прошедшего. «Необходимость этой письменной фиксации была вызвана процессом культурно-исторического самосознания русичей, влившихся в христианскую культуру и таким образом ставших наследниками многовековой христианской культурной традиции»[94].
Русские летописи – это уникальное явление в мировой культуре[95]. Они создавались на протяжении восьми столетий (летописание было запрещено Петром I), соединяя прошлое и настоящее русского народа. Летописи являлись «идеологическим стержнем, поддерживающим идею единства народа и государственности – от легендарных Кия, Щека, Хорива и полулегендарных Рюрика с братьями до Московского царства XVI–XVII веков»[96].
Долгое время в историографии господствовал образ Древа летописания, ветвившегося по русским городам и землям. Современная историография преодолела представление о происхождении летописания из одного корня. В ПВЛ присутствуют следы разных центров летописания: Киева, Переяславля, Галицкой земли, Ростова, Новгорода. Списки сводов, содержащих текст ПВЛ, сохранились в центрах княжеств, где сидели сыновья Владимира Мономаха. В Новгородской Первой летописи даже новгородские события даны в редакции ПВЛ, т. е. киевской, доведенной до 1115 г.[97]
Летописи чаще всего привлекаются исследователями как исторический источник или явление литературы. Между тем, это еще и концептуально насыщенный историографический источник.
И. П. Еремин предложил следующую классификацию историографического материала летописей. Он выделил: погодную запись – документально характеризующую единичное событие; летописный рассказ — пространную погодную запись; летописное сказание – переработанное летописцем устное сказание, к которому обращались при отсутствии иных источников[98]. Л. В. Левшун дополнила эту классификацию летописной повестью о княжеских смертях – своеобразным словом, посвященным смерти конкретного князя, по функции являющегося его светским житием[99]. На характеристику такой летописной повести как особого жанра обращал внимание Д. С. Лихачев.
Летописные своды и локальные исторические сочинения являлись литературными и идеологическими средствами борьбы в политическом противостоянии Средневековья. Они ставили задачу интерпретировать историю тех земель, князья которых претендовали на политическое лидерство на Руси.
Каждый уцелевший и дошедший до нас летописный памятник – единственный, уникальный и представляет исключительную ценность. Среди летописных сводов древнейшими являются списки Лаврентьевской[100], Ипатьевской[101] и Новгородской Первой[102]летописей. Они традиционно признаются основными при обращении к изучению истории «Повести временных лет»[103] и событий IX–XIII вв.
«Повесть» (ПВЛ) уводит к началам летописания. Название «Повести временных пет» говорит о том, что это именно «повесть», эпическое повествование о давнем прошлом. Изложению материала по годам предшествует текст, отражающий восприятие русскими людьми своего давнего прошлого, передававшегося из поколения в поколение еще в устной традиции. Исследователи считают, что отдельные исторические предания в связи с распространением письменности могли записываться весьма рано, еще в до кириллический период.
Для древней повести характерно изложение фактов, выстроенных определенным образом, объединенных единым стержнем. Повесть была той общей жанровой формой, в которой перекрещивались другие более узкие повествовательные жанры: хроникальные, военно-эпические, житийные, апокрифические и др.
Систематизация устных и письменных свидетельств активно начинается с конца 1030-х гг. летописцами Ярославова круга, в том числе и митрополита Илариона. Их историческое и историографическое сознание отличало строгое, цельное, богословски направленное понимание истории. Последующие летописцы, добавлявшие в свод другие предания, также широко использовали местные предания, кроме того, они записывали и то, что узнавали из «первых рук» (уст). История славян и Русской земли стала рассматриваться на фоне всемирной истории, вводилась во всемирную христианскую историю. Таким образом, выстраивалась культурно-историческая ретроспектива и перспектива Руси.
Повесть временных лет. Характеристика Повести временных лет (далее – ПВЛ) как историографического целого давалась в отечественной исторической науке, поскольку «Повесть» писалась как труд исторический, содержащий историографические элементы. В ней представлена проблемная постановка вопроса, указаны разные точки зрения, то есть, присутствует концептуальная дискуссионность.
В самом заглавии «Повести временных лет» поставлены вопросы: «Откуда есть пошла Русская земля?», «Кто в Киеве начал первее княжити?», «Откуда Русская земля стала есть?» Они несут главную концептуальную нагрузку повести. Ее создатели обладали широтой кругозора и государственным подходом к историческим событиям.
На поставленные в заглавии повести вопросы в самом ее тексте даются разные ответы. Это объясняется тем, что ПВЛ представляет собой летописный свод, в написании которого участвовало несколько поколений книжников второй половины XI – начала XII в. Они писали в разных центрах летописания, выражали позицию своих земель. Расхождения касались принципиальных вопросов: происхождения династии, крещения Владимира, возраста и происхождения Ярослава Мудрого и др.
В ПВЛ воспроизведены две версии начала Руси. Согласно одной из них, Русь возникла в результате миграционных потоков славян и Руси с верховьев Дуная из Норика по традиционному Дунайско-Днепровскому пути. Вторая точка зрения иначе характеризовала направленность миграции славян и Руси, считая, что их переселение происходило по Волго-Балтийскому пути.
Исследователи полагают, что в ПВЛ представлена полянославянская версия начала Руси, связанная с переселенцами из Норика (т. е. территории между Моравией и Баварией). В X в. Норик – это Ругиланд, называвшийся, как и всюду, где расселялись руги – «Руссией», «Рутенией». Летописцу были известны переселенцы и их потомки. Переселенцы из Норика-Ругиланда в X в. говорили на славянском языке.
Частью поляно-славянской концепции начала Руси является рассказ об обычаях племен, среди которых поляне значительно отличаются от славян и формой семьи, и формой брака и обрядом погребения (поляне не знали обычного для славян трупосожжения). Параллели обычаям полян исследователи находят в баварском и готском праве.
Понятие «варяги» приводится в ПВЛ в трех значениях. Во-первых, в качестве общей характеристики всего населения от Дании до Волжской Болгарии («предел Симов»). Во-вторых, как одного из племен наряду с другими прибалтийскими племенами. И, наконец, как совокупности прибалтийских племен[104].
Разные версии приводятся в ПВЛ и о происхождении династии. Так, киевский летописец писал о княжеском достоинстве Кия и полемизировал с отрицающими это мнение точками зрения. В Новгороде одни вели происхождение династии от Рюрика, тогда как другие от Игоря.
Для летописцев первоистоком новой, преображающим Русь событием христианской истории, является крещение. Неслучайно в древнерусских источниках деяние князя Владимира приравнивается к христианскому выбору императора Константина, просветившего Римское государство Христовой верою. Отсюда следует именование Владимира Святославича новым Константином. Оно содержится в ПВЛ под 6523 (1015) г.: «Се есть новый Костянтинъ великого Рима, иже крестивъся сам и люди своя: тако и сь створи подобно ему»[105].
Принятие христианства определило судьбу Руси. Таким образом, ПВЛ развивает традицию признания значимости христианского выбора и исторических оценок явлений в соответствии с этим выбором, которая была заложена митрополитом Иларионом и Иаковом мнихом.
Вместе с тем обрабатывая материалы о месте крещении Владимира, летописец выявил в них наличие несколько версий о его крещении: 1) в Корсуни, 2) Киеве, 3) Василеве. Кроме того, летописец отметил, что есть и иные точки зрения [106].
Споры вокруг места крещения Владимира были вызваны различиями в понимании содержания христианского вероучения. Исследователи считают, что «разные общины боролись за Владимира подобно тому, как семь городов спорили о месте рождения Гомера»[107]. В XI–XII вв. между разными течениями и пониманием христианства велась сложная борьба за трактовку принимаемой веры и ее роль. Для Десятинной церкви Успения Пресвятой Богородицы в Киеве – первой каменной церкви Древнерусского государства, воздвигнутой святым равноапостольным Владимиром на месте кончины христиан первомучеников Феодора и его сына Иоанна, связанной с кирилло-мефодиевской просветительской христианской традицией, было характерно бережное отношение к предшествующим текстам.
На Руси существовали разные христианские общины и широко сохранялись демократические институты. Общинный уклад играл важную роль. Уже поэтому «Русь не могла не принять, ни даже понять теоцентристских притязаний как Рима, так и Константинополя»[108].
В ПВЛ повествование о крещении рассредоточено между 986–989 (6494–6497) гг. Летописная повесть составлена из ряда самостоятельных произведений. По мнению Н. К. Никольского (1863–1935), летописец, переработал «Слово о том, како крестися Владимир, возмя Корсунь» или подобный самостоятельный текст. Н. Н. Ильин показал, что самостоятельным памятником, также использованным в рассказе о крещении Владимира, было первоначально и «Сказание о Борисе и Глебе»[109]. Оно отражает борьбу разных общин и традиций в христианстве на Руси в XI–XII вв. и оттеснение на задний план Десятинной церкви Софийским собором. В ПВЛ включены тексты, которые по содержанию или мировоззрению перекликаются с памятниками кирилло-мефодиевского и западного круга.
Историографический анализ ПВЛ предполагает выявление особенностей мировидения авторов Древней Руси ее киевской поры, идеологических различий и противостояний, свойственных той эпохе. Осуществляя такой анализ, А. Г. Кузьмин пришел к выводу, что у Нестора было иное представление о событиях, нежели у летописцев, редактировавших более ранние летописные тексты. Данное обстоятельство исследователь объяснял тем, что создание и редактирование летописного текста не может быть оторвано от общественно-политической и идейной жизни. В нем отражается и природа общественного сознания, и идейная борьба эпохи. Методика, которой следовали историки, в частности М. Д. Приселков, А. Г. Кузьмин, заключается в определении того, что написали Нестор, Сильвестр, Василий, а также другие, не названные по именам летописцы. Поскольку чаще всего бесспорно принадлежащих конкретному летописцу сочинений в нашем распоряжении нет, ученый исходил из анализа мировоззрения, «круга чтения», языка и стиля Нестора. Он характеризовал их на основании бесспорно принадлежащих игумену Печерскому Нестору внелетописных сочинений: Чтения о Борисе и Глебе и Жития Феодосия. И уже отправляясь от «этих объективных данных», искали в летописи «следы тех же воззрений».
Л. В. Левшун не согласна с гипотезой М. Д. Приселкова, отождествлявшего Илариона с Никоном. Разделяя мнение А. А. Шахматова, о выдающейся роли Никона (Великого) в создании «Первого Киево-Печерского свода» 1073 г., Л. В. Левшун характеризует историческое (историографическое) сознание летописца. Исследователь отличает его «от более строгого, цельного, богословски направленного понимания истории летописцами Ярославова круга»[110], к которому принадлежал и митрополит Иларион. Отдавая должное Никону, Л. В. Левшун пишет: «Именно Никону последующее восточнославянское летописание обязано широтой кругозора, государственным подходом к историческим событиям. Летописные известия, начиная с 60-х гг. IX в. Никон располагает в форме погодных записей…»[111].
Редакция ПВЛ 1113 г., осуществленная монахом Киево-Печерской лавры преподобным Нестором, вносила существенные коррективы в существовавший до этого «Начальный свод», который был им существенно переработан. Нестор использовал библейскую, византийскую литературу, восточно-славянские летописные своды. Он значительно углубил и расширил историографическую основу русского летописания. Было показано положение славян среди других народов, рассмотрены взаимоотношения внутри славянского народа, подчеркнуто единство славянства и славянского языка. История Древней Руси дана по преимуществу как история Киевской Руси. Описание Руси доведено Нестором до 1110 г. Далее писал другой летописец, который называет себя Сильвестром, игуменом Выдубицкого монастыря под Киевом.
В 1113 г. умирает князь Святополк Изяславич, для которого писал Нестор, и князь Владимир Мономах переводит летописание в Выдубицкий Михайловский монастырь, где игумен Сильвестр в 1116 г. создает свою редакцию. Но Владимир Мономах не был доволен редакцией Сильвества и поручил следующую переделку летописи своему сыну, тогда новгородскому князю Мстиславу. В 1118 г. княжеским духовником, чье имя осталось неизвестным, эта редакция была осуществлена. В текст было включено «Поучение Владимира Мономаха», легенда о призвании в Новгород варягов-князей и др. материалы.
В процессе осуществленных переработок в ПВЛ столкнулись две исторические концепции, в результате чего были нарушены стройность и логичность повествования Нестора. Утратило цельность повествование, задуманное как история восточных славян в контексте общеславянской истории и рассказывающее о Киеве как о городе, призванном объединить восточнославянские земли. То же можно сказать и о рассказе, о первых киевских князьях как о родоначальниках восточнославянской княжеской династии, которое вошло в противоречие с новым рассказом. Новый рассказ был посвящен изложению организующей роли Новгорода и призвании варягов, к которым возводилась не только правящая княжеская династия, но и название страны – Русь[112].
Повесть временных лет (так называемая Начальная летопись) – это главный труд о первых веках русской истории. Он является фундаментом дошедшего до нас отечественного летописания. «Это и неудивительно: здесь поставлены основные вопросы, связанные с началом народности, государства, христианства; здесь спрессованы те идеологические и политические факты, которыми многие столетия питалось этническое и политическое сознание истекающей кровью Руси», – объяснял А. Г. Кузьмин[113].
Христианское представление о времени. Летописание вводило в древнерусскую культуру представление о том, что прошло. Феномен летописного времени включал в себя повторяемость (типологию). Он основывался на убеждении о возможности повторения того, что было, типологического обоснования в соответствии с пониманием Священного Писания. Форма бытия времени в христианской культуре видится не в «истекании», даже по спирали, а в «истончении»[114].
Время христианской культуры не движется по кругу или по прямой: от Сотворения мира к Страшному суду; от прошлого к будущему: «… оно есть постепенно истончающаяся завеса между творением и Творцом<…>. Время в христианской культуре мыслится как инструмент преображения бытия, «вызревания» мира к самому последнему Преображению, после которого «времени не будет». «Плотность» времени и, значит, его «преобразовательная ценность» определяется частотой событий-преображений и событий-откровений, приближающих тварь к Творцу»[115].
Летописное время – иное, отличающееся от т. н. исторического, секулярного историографического времени. Оно равномерно и равноценно. Для летописца нет событий главных и неглавных, мелких и крупных. Для него есть «события» и «не события», т. е. явления и факты, аналогов (прототипов) которым он не знает в Писании и Предании, а потому и не может вписать их в свое повествование. Таким подходом объясняется наличие в Повести временных лет «пустых» дат.
93
Ярослав Мудрый был киевским князем в 1016–1018 и 1019–1054 гг.
94
Левшун Л. В. О слове преображенном и слове преображающем. Теоретико-аналитический очерк истории восточнославянского книжного слова XI–XVII веков. – Минск, 2009. – С. 355.
95
Кузьмин А. Г. Начальные этапы древнерусской историографии. / Историография истории России до 1917 года. – Т. 1. – М., 2003. – С. 26.
96
Там же.
97
В XI в. новгородского летописания еще не было.
98
Еремин И. П. Литература Древней Руси: Этюды и характеристики. – М.; Л., 1966.
99
Левшун Л. В. О слове преображенном и слове преображающем. Теоретико-аналитический очерк истории восточнославянского книжного слова XI–XVII веков. – Минск, 2009. – С. 352.
100
Название «Лаврентьевская летопись» дана по списку 1377 г., написанному под руководством монаха Лаврентия. Этот список создавался при князе Дмитрии Константиновиче Суздальском-Нижегородском. Он содержит поучение Владимира Мономаха, что свидетельствует об уникальности списка: в других летописях поучения нет. Позднее список хранился в Рождественском монастыре в г. Владимире, куда он, по мнению А. Г. Кузьмина, попал сравнительно поздно, «когда интерес к событиям киевского периода истории Руси уже угасал, а потому больше список не переписывался». Кузьмин А. Г. Введение / Повесть временных лет. – М., 2014. – С. 12.
101
Ипатьевская летопись получила название по принадлежности старшего списка Костромскому Ипатьевскому монастырю. По содержанию представляет южнорусский летописный свод конца XIII в. Этот свод является компиляцией киевского свода 1198 г. и продолжающего его галицко-волынского (непогодного) повествования, доходящего до конца XIII в. Последние известия (помеченные в Ипатьевском списке 1292 г.) касаются истории Пинско-Туровского княжества.
102
Новгородская первая летопись (НПЛ) старшего и младшего изводов отражает ранний период развития русского летописания. В ее списках содержатся сведения IX–XV вв. Однако еще в XI в. новгородского летописания не было. В редакции до 1115 г. все даже новгородские известия даны в киевской редакции. Собственно новгородская редакция известий сохранена сводами второй половины XV в.
103
Далее – ПВЛ или «Повесть».
104
Кузьмин А. Г. Начальные этапы древнерусской историографии. / Историография истории России до 1917 года. – Т. 1. – М., 2003. – С. 28.
105
Повесть временных лет. – СПб., 1996. – С. 58.
106
Научные споры о месте крещения Владимира продолжались в конце XIX в. и в XX в. См.: Введение христианства на Руси. – М., 1987. – С. 21–50.
107
Там же. – С. 25.
108
Там же. – С. 25–26.
109
Там же. – С. 25.
110
Левшун Л. В. О слове преображенном и слове преображающем. Теоретико-аналитический очерк истории восточнославянского книжного слова XI–XVII веков. – С. 355.
111
Там же. – С. 356.
112
Левшун Л. В. О слове преображенном и слове преображающем. Теоретико-аналитический очерк истории восточнославянского книжного слова XI–XVII веков. – С. 363.
113
Кузьмин А. Г. Введение / Повесть временных лет. – М., 2014. —
114
Кузьмин А. Г. Введение / Повесть временных лет. – М., 2014. – С. 339.
115
Там же.