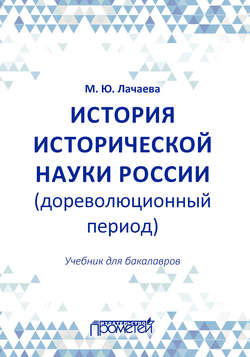Читать книгу История исторической науки России (дореволюционный период): учебник для бакалавров - М. Ю. Лачаева - Страница 4
Раздел 1
Развитие исторической мысли древней Руси IX–XVII веков
Глава 2
Концептуальное осмысление древней Руси ее современниками (до начала XIII века)
2.1. истоки русской исторической мысли
ОглавлениеХарактер русской исторической мысли сводится к проблеме ее истоков. Зарождение русской исторической мысли связано с корнями, уходящими в мироощущение Древней Руси. Сам момент зарождения национального историографического процесса для нас едва ли уловим. Но возможность проследить развитие этого процесса у нас все же есть.
Во-первых, с помощью зафиксировавших его письменных источников, которые дошли до нашего времени. Во-вторых, нам могут помочь сведения о несохранившихся текстах, упомянутые в источниках, нам доступных. Известны случаи, когда мы знаем не только название некогда написанных текстов, но и их содержание, хотя бы частичное, а при цитировании – и отрывки из них.
И, наконец, нельзя не учитывать историзма, присущего народному эпосу, устным народным сочинениям – сокровищницы народной исторической памяти, хранительницы «народного мировоззрения»[4].
Мы начинаем изучение отечественной мыслительной исторической традиции с ее христианского этапа, что объясняется состоянием дошедших до нас источников, и опускаем исторические представления предшествующих тысячелетий, периода безраздельного господства язычества, отраженного в мифах. Памятников языческой мифологии православная книжная традиция не сохранила, однако «заветную», «притаившуюся» народную изустную традицию хранит фольклор и его записи.
Речевыми жанрами фольклора являются эпические сказания, мифологические легенды; «славы», которые пели победителям; «плачи», оплакивавших погибших в бою, и др. Благодаря летописи, уже в XI–XII вв. включавшей в свой состав отдельные фрагменты эпических преданий[5], этот жанр фольклора лучше всего известен в его архаической форме[6].
Их данные, коренящиеся в архаических по происхождению сведениях, отражающих взгляды древнерусской цивилизации, имеют «особое, не всегда легко определимое отношение к книжной» традиции[7].
Летописные рассказы эпического происхождения свидетельствуют о высоком совершенстве фольклора в дописьменный, дохристианский период. Поскольку фольклор в равной мере обслуживал все социальные слои древнерусского общества, он отражал общие для этого общества представления. Фольклорные тексты помнили наизусть, их не записывали. Редкие и сложные исторические предания или мифы знали профессионалы-сказители. Это знание придавало им особую ценность в глазах общества[8], поэтому отражение исторической действительности и ее оценки в народном эпосе являются важными для характеристики исторических представлений древности.
Былины. Потребность фиксации реальных исторических событий обусловила возникновение былинного жанра, в котором выражались вековые идеалы народа[9]. О стойкости и жизненности эпических традиций, формировавших народное историческое сознание, свидетельствует их проявление в годы Великой Отечественной войны (1941–1945), когда героические былины воспринимались как духовное оружие в борьбе против фашизма, выражение народного патриотизма и стойкости перед лицом врага[10].
Былина, по мнению В. Я. Проппа (1895–1970), относится не к одному году и не к одному десятилетию, а ко всем тем столетиям, в течение которых она «создавалась, жила, шлифовалась, совершенствовалась или отмирала <…>. Поэтому всякая песнь носит на себе печать пройденных столетий <…>. Былина <…> содержит отложения всех пройденных ею веков. Решающее значение для отнесения к той или иной эпохе будет иметь выраженная в ней основная идея (курсив наш. – М. Л.)»[11].
В былине отражались «исторические воззрения народа в еще большей степени, чем историческая память», ее отношение к прошлому было активным. Историческое содержание былин передавалось сказителями. Сохранение исторически ценного в эпосе (будь то имена, события, социальные отношения или даже исторически верная лексика) являлось результатом «сознательного, исторического отношения народа к содержанию эпоса»[12].
В понимании историзма былинного эпоса у ученых единства не было[13]. Так, В. Я. Пропп считал, что историческая песня, возникнув сравнительно поздно, пришла на смену былинному эпосу[14]. Иной была позиция Б. А. Рыбакова (1908–2001), М. М. Плисецкого[16] и Р. С. Липеца[15], согласно которой, сначала возникла историческая песня. Затем она превращается в былину, сохраняя исторически значимое содержание. Сторонники первичного появления исторической песни, предшествовавшего возникновению былины, считали, что в основе былин лежали конкретные исторические факты, а у былинных персонажей были конкретные исторические прототипы. Б. А. Рыбаков находил истоки сюжетов большинства героических былин в событиях IX–XII вв.[17]
В памятниках мысли Древней Руси нашли отражение существовавшие внутри христианства тенденции, их противоборство и компромиссы с силами, противодействовавшими христианству[18]. Поскольку после официального введения христианства на Руси (988) языческие традиции не исчезли, на религиозно-историческую мысль повлияли также синкретические (двоеверные) формы мировоззрения. Отмирая постепенно, они давали жизнь новым синкретическим образованиям[19]. С двоеверием генетически было связано раннее еретичество.
Начиная изучение отечественной мыслительной исторической традиции с ее христианского периода, следует учитывать ряд обстоятельств.
Во-первых, характеризуя историческую мысль Средневековья, нельзя ограничиться констатацией «провиденциализма». Знакомясь с проникнутой религиозностью древнерусской историографической традицией, не обойтись без выявления и рассмотрения тех духовных источников, которые вдохновляли древних авторов, тем более, что почти все знаменитые писатели Древней Руси вышли из монастырей.
Во-вторых, «христианско-средневековая гносеология», согласно терминологии Г. К. Вагнера (1908–1995), не мыслила себя единой и таковой не являлась. Она предполагала возможность разных способов познания мира и истории. Многообразие теоцентрики восточнославянской средневековой культуры не исключало объединительного идейного значения христианства и православия.
Интерпретируя древнерусские тексты и определяя тип аксиологической (ценностной) системы древнерусской литературы, современные авторы используют в качестве методов ее дифференциацию, классификацию и типологию. Учитывается как существование двуединого явления – несовпадения аксиологических систем, построенных на одном и том же ценностном мировоззренческом основании, так и сходство аксиологий, построенных на разных ценностных основаниях. В источниках часто встречается совмещение в одной аксиологии двух оснований.
В-третьих, помимо центростремительных сил (в объединительных усилиях христианства и их результатах В. О. Ключевский видел природу сочувственного отношения русского народа и отечественной историографии к Древней Руси, благодарного исторического воспоминания о ней как о колыбели нашей народности) в христианстве также действовали центробежные силы.
С укреплением христианских ценностей уничтожался языческий пласт представлений о племени, народе, который в течение тысячелетий сохранял самоназвание и своих богов. В рамках формирующейся древнерусской отечественной культуры шло взаимодействие этнических культур и субкультур, действовал принцип «встречных течений». Тем самым подпитывалось существовавшее многообразие идейных пластов древнерусского исторического сознания. Зрелость и литературное совершенство древнерусских произведений тысячелетней давности, сложных, глубоких и масштабных по своему содержанию, объясняется длительностью предшествовавших христианскому периоду осознания процессов самоидентификации.
Сохранившиеся памятники свидетельствуют о существовании на Руси уже в XI в. развитого национального исторического самосознания.
В-четвертых, историческое сознание Древней Руси отличал «средневековый историзм». По мнению Д. С. Лихачева (1906–1999), которому принадлежит данный термин, он находился в связи с другой важной чертой сознания, сохранившейся вплоть до наших дней, – гражданственностью.
В-пятых, для того, чтобы наблюдать концептуальный мир древнерусского автора, который принципиально отличался от мира идей современного автора, специалисты используют понятие «модус восприятия действительности» или «модус бытия». Он помогает им выявить свойственный конкретному времени и конкретным авторам характер их творческой деятельности.
«Модус» включает совокупность факторов, влияющих на историографический процесс. Важнейшими являются:
1) тип аксиологической (ценностной) системы, принадлежность к которой осознает (или не осознает) автор;
2) способ познания исторической реальности, доступный данному автору;
3) способ бытия автора исторического текста и жизненные моменты, повлиявшие на его мировоззренческое становление.
Приоритетными в историографическом рассмотрении являются вопросы: как средневековый автор воспринимал мир и историю, что интересовало его в мире и истории, какими средствами он располагал для описания исторических событий и явлений.
В христианской культуре проблема творчества осмысливается в онтологических и гносеологических категориях. В святоотеческой традиции творчество человека и его творческие способности являются особым божественным даром, заданием и долгом человеку, которое ему дается, как и свобода воли, помимо человеческого желания или нежелания, и является печатью Богоподобия. Таким образом, творчество – это дарованная человеку Творцом форма Богопознания[20]. «Модус бытия» определяет пределы видения и ведения автора, переступить которые тот не в силах. Но в очерченных пределах в своем творчестве автор свободен.
Ставя задачу определить время составления памятника, ученые выясняют, что знал и чего не знал и не мог знать автор, поскольку событие, по которому предполагалось датировать источник, еще не произошло. В датировании памятника исследователи видят ключ к пониманию текста. Одним из приемов датировки является выявление в тексте указаний, когда об умерших людях, чьи даты смерти известны, говорится как о живых. Для методики исследования историографических источников важным представляется определение и выделение содержащихся в них оригинальных известий. В том случае, если исследователи осведомлены об общественно-культурной и политической обстановке времени создания текста, они рассматривают распространенные тогда идеи и настроения, и уже на этом основании моделируют представления автора или высказывают гипотезу о тех идеях, которые могли питать автора и которые могли быть ему известны.
Из текста, его реалий, литературных аллюзий[21], употребленных в нем цитат, специалисты черпают сведения для атрибуции[22] и датировки памятника.
В-шестых, своеобразным камертоном, характеризующим метод христианского автора, является Священное Писание, а также глубокая потребность древнерусского книжника соотнести описываемые исторические события со священными текстами. В известной степени это нивелирует нюансы аксиологических модификаций и позволяет разграничить способы установления средневековыми авторами исторического смысла происходивших событий.
В-седьмых, при всем многообразии приемов и способов использования священных текстов у разных авторов (в том числе и летописцев, которые не ставили целью толкование библейских текстов) исследователи выделяют три основных типа отношения к Писанию, метода осмысления, описания и восприятия исторической действительности.
1. «Типологическая экзегеза» или типологическое толкование, т. е. определение значимости события, исходя из выявленной типологической связи древнерусской исторической реальности с реалиями, описанными в священных текстах, что давало автору основания для описания (или игнорирования) исторического события и его толкования. Рассмотрение событий современности через призму Священного Писания было необходимо автору, чтобы показать, как современный ему средневековый мир отражен в зеркале вечности. Соотнесение явления или события с его прототипом (типология) давало объяснение (экзегезу) в соответствии с представлением о времени средневекового автора. Актуализация исторического события, признание его значимости выявлялось в результате нахождения ему/его эквивалента в Библии.
2. «Аллегорическая амплификация» – восприятие Библии как предмета дискурсивного анализа, требующего объяснения смыслов Святого Писания. Поскольку конкретное явление в таком случае получало столько объяснений, сколько мог придумать автор, исходя из личного опыта, наблюдательности, начитанности и т. д., т. е., давая субъективно авторские интерпретации былого, то в данном случае речь могла идти только о простом умножении смыслов. П. А. Флоренский оценивал «дух аллегоризма» как «закрадывающуюся» «оборотную сторону онтологического измельчания и отяжеления»[23].
3. «Обратная типология» использовалась, когда Библия воспринималась как источник поучительных иллюстраций и сентенций к возникавшим и возникающим явлениям и событиям. Тогда обращались к описательному, иллюстративному подходу.
В-восьмых, средневековое христианское сознание было образно-символическим. «Символический реализм» обусловил главные направления развития средневекового сознания и общий характер восточнославянской литературы. В основе христианских представлений древнерусского автора лежала убежденность в том, что знание открывается через «божественное откровение», а структура мироздания пронизана идеей образа и «всякий образ», по выражению чтимого древнерусским человеком Иоанна Дамаскина[24], «есть выявление и показание скрытого».
В такой системе координат не отдавалось предпочтения понятийному мышлению и анализу причинно-следственных связей. Основную познавательную функцию нес образ. В том случае, если Священное Писание открывало автору сущностную характеристику образа – «подобие прототипу по основным его параметрам при обязательном несовпадении с ним»[25], тогда ему открывалась связь с Вечностью, т. е. мировоззренческие особенности объясняют понимание средневековыми авторами проблемы времени.
В-девятых, на содержание исторического текста и последующие в нем изменения оказывал рукописный характер средневековой восточнославянской книжности. В процессе требовавшего времени кропотливого труда по переписыванию текста в него вносились изменения, в том числе и концептуального характера.
В Средневековье не различались понятия «писатель» и «переписчик», обозначавшиеся одним словом – «списатель». Редактирование переписываемого текста считалось нормальным: писец мог дополнить текст, иногда изменить его. В. О. Ключевский обращал внимание на то обстоятельство, что текст наших древних памятников задает не меньше работы исследователю, чем текст античных памятников. Затрудняют понимание наших древних текстов «неумение их прочитать, и это неумение одинаково свойственно как нашим древним книгописцам, так и новейшим ученым, которые принимались за издание памятников, и последние грешат этим едва ли меньше первых. Ни наши древние книжники, ни новейшие издатели не заботились достаточно о правильном чтении рукописей, отсюда частые искажения в позднейших списках и изданиях»[26]. С этим связаны трудности в установлении авторства, выявлении протографа и определения соотношения редакций текста. Поэтому выявление мировоззренческой атмосферы эпохи, ее основных черт является важным подспорьем для концептуального анализа.
И, наконец, в-десятых. Древнерусская мысль не была монолитной изначально. Древнерусское мыслительное наследие составляли разнородные пласты, взаимодействовали несколько течений. Наряду с ортодоксальным (далеко не единым по своей природе) наследием, полюса которого определяли теолого-рационалистическое и мистико-аскетическое направления мысли, существовали еще и антицерковные доктрины. В процессе дифференциации древнерусской мысли формировались основные направления и тенденции развития исторических представлений в Древней Руси.
История древнерусской исторической мысли как особого феномена и одновременно как части восточно-христианской мысли и европейского историко-мыслительного пространства Средневековья не утратила связи с явлениями не столь от нас отдаленными. Она обладает огромной притягательной силой и является актуальной.
Ранняя русская историография представлена большим числом авторов и количеством идей. Древняя Русь превосходила современные ей государства Западной Европы по развитию духовной культуры. Грамотность и письменность были распространены среди населения Древней Руси. Проникновение в древнерусские тексты отчасти напоминает проникновение в древнерусскую живопись: «от первоначального шока – к постепенному узнаванию, от узнавания – к пониманию, от понимания – к восхищению»[27].
4
Термин фольклориста и этнографа А. П. Скафтымова (1890–1968).
5
Эпос фиксируется письменностью, зачастую монахами-летопис-цами, когда язычество перестает представлять для церкви опасность.
6
Творогов О. В. Принятие христианства на Руси и древнерусская литература // Введение христианства на Руси. – М., 1987. – С. 138.
7
Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь. – М., 2009. – С. 11–13.
8
Творогов О. В. Принятие христианства на Руси и древнерусская литература // Введение христианства на Руси. – М., 1987. – С. 139.
9
Советская историография Киевской Руси. – Л., 1978. – С. 234.
10
Советская историография Киевской Руси. – Л.: Наука, 1978. – С. 226; Русский патриотический фольклор: материалы научно-творческого совещания «Великая Отечественная война в устном народном творчестве». М., 1945. Чичеров В. И. Былинные богатыри // Народ-богатырь. IX–XII. – М., 1948.
11
Пропп В. Я. Русский героический эпос. – Л., 1955. – С. 26.
12
Лихачев Д. С. Возникновение русской литературы. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. – С. 50–51.
13
Главными участниками-оппонентами в дискуссии об историзме народного эпоса в 1960-х гг. были Б. А. Рыбаков и В. Я. Пропп. См.: Азбелев С. Н. Историзм былин и специфика фольклора. – Л., 1982. – С. 5—17.
14
Советская историография Киевской Руси. – Л.: Наука, 1978. – С. 232. Былины Киевского цикла, по мнению В. Я. Проппа, не были искажены или качественно преобразованы в позднейшее время. Поздние, известные науке былины – результат естественной и закономерной эволюции древнерусского эпоса.
16
Липец Р. С. Эпос и Древняя Русь. – М., 1969.
15
Плисецкий М. М. Историзм русских былин. – М., 1962.
17
Рыбаков Б. А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. – М.,1963.
18
Мильков В. В. Основные направления религиозно-философской мысли Древней Руси XI–XV вв.: автореф. дис… д-ра филос. наук. – М.: Ин-т философии, 2000. URL: http://www.dissercat.com/content/osnovnye-napravleniya-religiozno-filosofskoi-mysli-drevnei-rusi-xi-xv-w
19
Кузьмин А. Г. Духовная культура Древней Руси // Вопросы истории. – 1972. – № 9. – С. 111–132.
20
Левшун Л. В. О слове преображенном и слове преображающем. Теоретико-аналитический очерк истории восточнославянского книжного слова XI–XVII веков. – Минск, 2009. – С. 67–69.
21
Аналогия или намек на факт (исторический, мифологический, политический, литературный или др.)
22
Установление авторства.
23
Флоренский П. А. Иконостас. – М., 1995. – С. 82. П. А. Флоренский (1882–1937) связывал эту тенденцию с общим принижением церковной жизни, начиная с конца XVI в. В работе «Иконостас» (1922) мыслитель писал: «Чем онтологичнее духовное постижение, тем бесспорнее принимается оно как что-то давно знакомое, давно жданное человеческим сознанием. Да и в самом деле, он есть радостная весть из родимых глубин бытия, забытая, но втайне лелеемая память о духовной родине» (с. 81).
24
Один из отцов церкви, христианский святой, богослов и философ. Родился около 675 г. в Дамаске. Умер около 753 г. в древнейшей лавре Саввы Освященного (монастырь основан около 484 г.), расположенной на западном берегу р. Иордан в Иудейской пустыне. В настоящее время лавра находится в юрисдикции Иерусалимской православной церкви.
25
Левшун Л. В. О возможной систематике творческих методов в средневековой восточнославянской книжности // Христианство и русская культура. – Сб. 4. – СПб., 2002. – С. 5.
26
Ключевский В. О. Соч.: в 9 т. – T.VII. – М., 1989. – С. 10.
27
Борисов Н. С. Дмитрий Донской. – М., 2014. – С. 11.