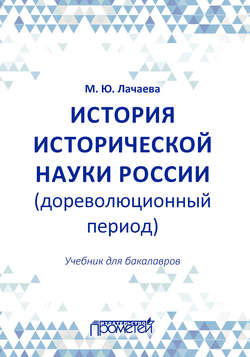Читать книгу История исторической науки России (дореволюционный период): учебник для бакалавров - М. Ю. Лачаева - Страница 16
Раздел 1
Развитие исторической мысли древней Руси IX–XVII веков
Глава 2
Концептуальное осмысление древней Руси ее современниками (до начала XIII века)
2.5. «Слово о полку Игореве» – источник светской исторической мысли Древней Руси XI–XII вв
Оглавление«Слово о полку Игореве» – единственное дошедшее до нас авторское произведение светской литературы XI–XII вв. Оно представляет жанр «воинской славы» домонгольской Руси. О других светских произведениях того времени мы можем судить только на основании упоминаний о них, или извлечений их текстов и пересказов из летописей, сохранившихся списков (сводов) которые датируются уже более поздним временем – началом или концом XIV в.
«Слово о полку Игореве» продолжило сложившуюся еще до XII в. «архаическую светскую традицию»[116] воинской славы. Идейная концептуальность памятника представляет итог длительного развития светской военной патриотической национальной мысли. «Слово» написано в христианском обществе и его автор христианин.
«Слово» – сложный по составу и жанровой принадлежности историографический источник. Сам автор называет написанное им произведение и «повестью», и «песнью». Все три названия жанрово представлены в тексте. Есть еще одна жанровая форма – это историческое повествование, описывающее выступление князя Игоря в поход и сам поход, перипетии битвы и поражения.
Своим предшественником автор «Слова…» считает Бояна и семикратно апеллирует к нему. В соответствии с обычаями своего времени автор «Слова…» широко использовал тексты Бояна. В переработанном виде он включил в текст остатки строф жившего во второй половине XI в. древнерусского поэта [117].
Боян – это единственный известный нам по имени поэт, писавший на древнерусском языке на светские темы в XI в. (существует гипотеза, что он был младшим современником митрополита Илариона Киевского или принадлежал к близкому ему поколению).
На основании анализа сюжетного содержания прямых цитат Бояна в «Слове…», отмеченных ссылкой на его авторство, определение хронологии которых возможно с помощью исторического объяснения в границах «не ранее», «самое раннее» или «всего позднее» (в соответствии с правилом terminus post quern / terminus ante quern), специалисты видят в Бояне современника Всеслава Брячиславича полоцкого (ум. в 1101 г.), Святослава Ярославича и его сыновей: Олега (ум. в 1115 г.) и Романа Святославичей.
Благодаря автору «Слова…» нам известно, что Боян воспевал «старого Ярослава», в котором исследователи усматривают киевского князя Ярослава Владимировича (Мудрого), а также единоборство его брата Мстислава с касожским князем Редедей и «красного Романа Святославича»; внука Ярослава, который погиб в 1079 г. от рук изменивших ему половцев. Обращаясь к известным своим современникам мотивам на воинскую тему, автор «Слова…» прибегает к реминисценции, сопоставлению, взгляду в прошлое, используя метод аллюзии (аналогии).
Обращение автора «Слова» к творческому наследию Бояна объясняется его преклонением перед авторитетом Бояна и его эрудицией, способностью обобщать и анализировать явления. Выбор событий Бояном, хотя их и разделяет столетие, оказался идейно созвучен событиям, о которых повествует автор «Слова». Автор «Слова» использовал исторические образы, созданные предшественником, для решения собственных задач тонко и осторожно. Заимствованные у Бояна образы и метафоры стали концептуальным основанием и аргументами для убедительного выражения идеи единства князей, единой Русской земли как высшей ценности. Авторская позиция объясняет смысл обращения к князьям: «Встать за землю Русскую, за раны Игореве».
С. Ф. Платонов[118] подчеркивал, что певец «Слова» «рассказывает о походе и поражении окраинных северских князей; но он постоянно зовет их самих и их дружины «русичами» и «русскими полками», даже «Русскою землею». Для Платонова это является подтверждением важной закономерности, которая потом не раз спасала Русь и Россию: «В то самое время, когда нарушалось государственное единство на Руси, и начался хозяйственный упадок южных волостей, – в обществе народилось национальное чувство и сознание народного единства» [119].
Свойственный раннему отечественному средневековью стиль нашел выражение в обращении автора «Слова…» к князьям, которое «выдерживает сравнение с самыми высокими образцами церковной гомилетики[120] XI–XII вв., отмеченными именами Илариона и Кирилла Туровского»[121]. Смысл обращения автора «Слова» состоял в призыве прекратить перед общей угрозой вековые раздоры. В конкретно-исторической ситуации к умиротворению призывались Ярославичи и полоцкие Всеславичи[122].
Д. И. Иловайский обратил внимание на то, в XII в. Тмутараканский край был «оторван» от Руси половцами, но чернигово-северские князья не забывали о нем и делали попытки вернуть его в свое владение. В «Слове…» говорится, что Игорь Северский и его брат Всеволод Трубчевский предприняли поход на половцев с целью поискать град Тмутаракань. В «Слове…» не один раз и с сочувствием упоминается о Тмутаракани[123].
Мировоззрение создателя «Слова» выросло на почве древнерусской действительности XII в. Вместе с тем его исторический и культурный кругозор вобрал в себя, в том числе, и печальное наследие XI в. погибшего Болгарского царства. Автор XII в. являлся представителем школы «исторической непрерывности», ценившейся в Византии. Она заключалась в том, что новое произведение создавалось на основе и с использованием уже существующих текстов предшественников, соответствующим образом переработанных. Таким образом, обновление осуществлялось при сохранении и параллельном существовании исходных произведений. Благодаря этому, усложняясь, создавалась единая многоплановая картина исторического процесса, картина бытия, «взаимопроникновения времен и космичности сознания человека».
В отраженной «Словом…» исторической памяти ученые находят следы дохристианского мифологического сознания, образы хтонических (порожденных землей) божеств, используемый в тексте мотив Трои, сюжеты, связанные с которой были известны в Древней Руси[124]. Так, со ссылкой на Бояна, автор «Слова» восхваляет дела Игореве «рища в тропу трояню»; вспоминает войны стародавних времен и называет эти времена «вЂчи трояни»[125]. Раздор-несчастье «на землю трояню» вступило в образе девы (Обиды). Половецкие набеги, старые междоусобицы и хитрости Всеслава происходили «на седьмом вЂци трояни».
Автор «Слова» использовал характерный для ранних средневековых европейских авторов метод концептуального параллелизма. По мнению итальянского исследователя Р. Пиккио (1923–2011), «этот способ определения собственного метода повествования как исторического, основанного на прямых (не поздних) источниках, и как не поэтического (т. е. не фантастического) типичен для средневековой традиции, связанной с легендой Трои»[126].
Неизвестный поэт XII в. заимствовал необходимые ему отрывки произведений второй половины XI в. «точно так же как другой его современник, опираясь уже на текст самого «Слова», дополнял и «уточнял» отдельными деталями прозаическую повесть о «походе» Игоря Святославича, дошедшую до нас в составе летописи по Ипатьевскому списку»[127].
Следы традиции исторической ретроспекции (воспоминаний), перенесенной на Русь из Византии в XI в., присутствуют в творчестве Бояна, в «Слове» XII в. и вновь появляются в конце
XV в. в «Задонщине», т. е. уже в эпоху «второго византийского влияния», оказавшего воздействие на культуру Московской Руси.
«Только от Бояна и через Бояна в «Слово», – по наблюдению А. Л. Никитина, – «мог войти <…> «дунайский пласт» исторических реминисценций и славянской мифологии, уходящей своими истоками к событиям еще Римской империи»[128]. Русскую историю второй половины XI в. древнерусский Бонн понимал как всеславянскую. Исследователи отмечали присутствующие в «Слове» сербизмы и болгаризмы.
«Стратификационный» (понятие А. Л. Никитина) подход к «Слову» (т. е. подход, «расслаивающий» памятник на разновременные пласты, выявляющий в нем более ранние тексты, в свое время усвоенные и включенные в изложение создателем окончательного текста) с целью изучения хронологически многослойного текста открывает исследователям путь в творческую лабораторию древнерусского автора, который включает в себя в том числе и историографическую составляющую.
«Стратифицированность» текста отражает сложную жизнь памятника и дает основания для выделения «хронологических порогов» или «рубежей сознания», характеризующих эволюцию исторических представлений древнерусского человека. «Стратификационный» подход не исключает последующего применения сопоставительного и сравнительного методов, необходимых при рассмотрении хода развития исторической мысли и выявления концептуальной преемственности.
Вдумчивое отношение отечественных историков к памятнику давало им основания соотносить правильность собственных суждений и оценок. Такой прием использовал С. Ф. Платонов в «Учебнике Русской истории для средней школы». Он писал: «Слово о полку Игореве» справедливо ставит Ярослава (Осмомысла[129], – М. Л.) по значению рядом со Всеволодом Большим Гнездом. Они были в то время сильнейшими князьями на Руси»[130]. При них расцвели Галицкое княжество и Северо-Восточная Русь.
Современная наука рассматривает «Слово» как с точки зрения анализа содержащихся в нем генетических смыслов, так и места памятника в ряду других европейских произведений. Сравнив «Слово о полку Игореве» с «Песнью о Роланде»[131], Д. С. Лихачев показал их принадлежность к общему жанру. Ученый отметил отсутствие между ними генетической связи. Общим было одно: оба памятника появились в сходных условиях раннего Средневековья. «Слово», по выражению Д. С. Лихачева, «историчнее», ближе к историческим событиям, поскольку оно было создано вскоре после событий, тогда как «Песнь о Роланде» формировалась веками, для чего во Франции были исторические возможности. Образ князя Святослава ближе к историческому князю Святославу, чем образ императора Карла в «Песне о Роланде» к историческому Карлу. В «Песне…» сильнее сказывается не столько исторический, сколько публицистический элемент.
Автору «Слова о полку Игореве» были неведомы современные ему западноевропейские источники, но античные источники он знал. Так, в качестве аргумента своей правоты автор использовал троянский сюжет и троянские образы.
Время создания «Слова о полку Игореве», по наблюдению специалистов, совпало с наступлением на Руси времени «сращения поэтики устной словесности с поэтикой письменной литературы». И мы не удивились бы, по словам Г. М. Прохорова, «одиночеству» Слова о полку Игореве, не случись на Руси такой беды, как разгром ее татаро-монгольским войском Батыя, и последовавшего затем раздела ее территории Ордой и Литвой. Вместо «культурного синтеза», фиксирования эпоса письменностью, «наступил длительный шок», вызванный поражением и разделом православной страны между двумя языческими народами[132].
Контрольные вопросы
1. Существовала ли собственно русская светская литература в Древней Руси до XIII в.?
2. Вся ли начальная литература Древней Руси была заимствована и «трансплантирована» (по выражению Д. С. Лихачева) на Русь Из Византии через Болгарию?
3. Как влияла культура и образованность на светский текст в Древней Руси XI–XII вв.?
4. Охарактеризуйте концепцию автора «Слова о полку Иго-реве».
5. Как использует наследие Бояна неизвестный автор «Слова о полку Игореве» в своем тексте?
6. Насколько «Слово о полку Игореве» отражало общие тенденции, характерные для развития эпического военного жанра европейских стран?
7. Для чего потребовался автору «Слова о полку Игореве» сюжет Трои и как он характеризует его культурно-исторический и литературный кругозор?
Рекомендуемая литература
1. Зализняк А. А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. – М., 2008.
2. Моисеева Г. Н. Спасо-Ярославский хронограф и «Слово о полку Игореве». К истории сборника А. И. Мусина-Пушкина со «Словом». – Л., 1977.
3. Никитин А. Л. Слово о полку Игореве. Тексты. События. Люди. – М., 1998.
4. Ржига В. Ф. Автор «Слова о полку Игореве» и его время // Археографический ежегодник за 1961 год под редакцией академика М. Н. Тихомирова. – М., 1962.
5. Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. – М., 1971.
6. Рыбаков Б. А. Петр Бориславич. Поиск автора «Слова о полку Игореве». – М., 1991.
7. Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». – М., 1972.
8. Слово о полку Игореве. – Л., 1985.
116
Робинсон А. Н. О закономерностях развития восточнославянского и европейского эпоса в раннефеодальный период // Славянские литературы. VII Международный съезд славистов. – М., 1973. – С. 184.
117
Дмитриев Л. А. Боян (XI в.) /Словарь книжников и книжности Древней Руси. XI – первая половина XIV в. – Вып. 1. – Л., 1987. – С. 83–91.
118
С. Ф. Платонов (о нем подробнее см. параграф 7.11).
119
Платонов С. Ф. Учебник Русской истории для средней школы. Курс систематический в двух частях с приложением восьми карт. – Пг., 917. – С. 58.
120
Наука о церковной проповеди, красноречии.
121
Никитин А. Л. Слово о полку Игореве. Тексты. События. Люди. – М., 1998. – С. 19–20.
122
Дмитриев Л. А. «Слово о полку Игорева» в трудах Д. С. Лихачева // Проблемы изучения культурного наследия. – М., 1985. – С. 81.
123
Иловайский Д. И. Начало Руси. – М., 1996. – С. 298.
124
Начиная с Троянской войны, древняя Троя участвовала в этногенезе многих европейских народов, в том числе народов, проживавших позднее в Причерноморье и на южном побережье Балтики.
125
Д. И. Иловайский высказал соображение, что «веци (века) Трояни» относятся не к императору Трояну, а «собственно к Троянской войне. Впрочем, могло быть, что воспоминания о том и о другом перепутались». (Иловайский Д. И. Начало Руси. – М., 1996. – С. 249). Сказания о Троянской войне были любимым чтением у дунайских болгар.
126
Пиккио Р. Мотив Трои в «Слове о полку Игореве» // Проблемы изучения культурного наследия. – М., 1985. – С. 90.
127
ПСРЛ. – Т. II. – СПб., 1908. – Стб. 637–644; Никитин А. Л. Слово о полку Игореве. Тексты. События. Люди. – М., 1998. – С. 180.
128
Никитин А. Л. Слово о полку Игореве. Тексты. События. Люди. – М., 1998.– С. 185.
129
Ярослав, прозванный Осмомыслом, был талантливым князем. Княжа в 1152–1187 гг., он продолжал дело объединения и усиления Галицкого княжества. Всеволод Юрьевич, прозванный «Большое Гнездо», – младший брат Андрея Боголюбского и сын Юрия Долгорукого, правил в 1176–1212 гг., ставших временем расцвета Владимир о-Суздальского княжества.
130
Платонов С. Ф. Учебник русской истории для средней школы: курс систематический в двух частях с приложением восьми карт. – Пг., 1917.– С. 82–83.
131
Эпическая старофранцузская поэма, написанная в XII в., посвященная описанию гибели войска Карла Великого, возвращавшегося в 778 г. из завоевательного похода в Испанию.
132
Прохоров Г. М. Древняя Русь как историко-культурный феномен. – СПб., 2010. – С. 127–128.