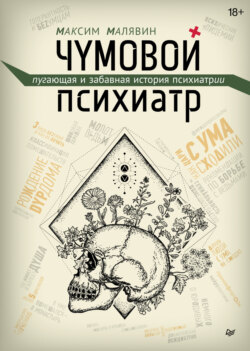Читать книгу Чумовой психиатр. Пугающая и забавная история психиатрии - Максим Малявин - Страница 17
Средневековье
Куда девать душевнобольных
ОглавлениеЕсли у скорбного главою в городе были родственники, то вся забота о нём ожидаемо становилась их обязанностью. Городу было неважно, какие меры примет родня: главное – с глаз долой, чтобы пациент не смущал покоя горожан и не угрожал их безопасности. Вон-де у вас на заднем дворе пристройка вместительная, да и погреб в доме глубокий, да и за домом закуток имеется – извольте держать вашего сумасшедшего взаперти. Да хоть и на цепь посадите, никто слова не скажет, лишь бы цепь была покороче и не на виду он сидел. Иначе сами понимаете, спрос будет уже с вас…
В старинном испанском кодексе тех лет было чётко прописано: помешанный, маньяк и слабоумный не ответственны за поступки, содеянные ими во время болезни; ответственность падает на родных, если они не сторожили больного и этим не воспрепятствовали тому ущербу, который он нанёс другим.
Видите – основы определения недееспособности и невменяемости законодательно закладываются уже тогда. Как и ответственность опекуна.
А что делать, если больной одинок? В Германии в таком случае заботу (пусть даже она ограничивается запертым чуланом и скудной кормёжкой) брал на себя город или какой-то из цехов. В Бретани эта обязанность вменялась приходскому духовенству.
Впрочем, бывало и так, что родственники у такого больного есть, но либо не могут, либо не хотят за ним присматривать. Ситуация вполне рядовая, причём не потерявшая актуальности и по сей день. И как быть? Можно было отдать такого пациента за оговоренную плату на содержание в другой дом: желающие подработать таким образом обычно находились. Если же родня сама едва сводила концы с концами, имелся вариант с прошением к магистрату – возьмите, мол, на себя его содержание в изоляции. Да хоть бы и в тюрьму… впрочем, о тюрьмах чуть ниже. И городские власти, кстати, порой даже шли навстречу.
К примеру, в 1427 году приехал во Франкфурт поверенный в делах маркграфа бранденбургского. Приехал – и скоропостижно двинулся глуздом. Можно было бы, конечно, поступить с ним так, как обычно поступали с сумасшедшими иногородцами и чужестранцами (чуточку терпения, сейчас и до них речь дойдёт), но неудобно как-то. Опять же, не ровён час, маркграф обидится, сделает оргвыводы, и тогда будет просто беда. Вот и решили на уровне городских властей не обострять: нашли бедолаге отдельную квартиру с крепкими дверьми и надёжными замками, наняли за счёт города сторожей – в общем, уважили.
А как обычно поступали, если в городе сходил с ума (или приходил в город уже сумасшедшим) чужак – странник, житель соседнего города, иноземец? В таких случаях город выделял провожатых и отправлял болезного домой, на родину. Ну если удавалось выяснить, где она у него, эта родина. А там либо родне на руки сдавали, либо оставляли на попечение общественности. Известно, например, что по высочайшему повелению короля Франции и постановлению парламента Экс-ан-Прованс тамошние коммуны были обязаны кормить своих бедняков и держать взаперти своих помешанных. Ну а раз обязаны – нате, берите и держите.
Ну хорошо, скажете вы, а как быть, если душевнобольной чужеземец не говорит, откуда он тут такой интересный взялся? По слабоумию не помнит, или голоса ему запрещают, или бредовые убеждения не велят – тогда как быть? Да очень просто. Как в сказке про Федота-стрельца, удалого молодца: мы посадим вас в бадью, кинем в море – и адью. Ну не то чтобы прямо в бадью и не конкретно в море, конечно, но нередко практиковалось такое, что брали помешанного под микитки да и увозили подальше от города, к самой границе владений, а там отпускали на все четыре стороны (про Рембо первый фильм все помнят? Вот примерно так и поступали).
А если упрямец возвращался в город – били кнутом без пощады и снова отвозили куда подальше. Мол, тут, в городе, своих-то не знаем куда девать, а уж пришельцев и подавно, так что будешь ушельцем.
В Нюрнберге, если верить Мишелю Фуко и его «Истории безумия в Классическую эпоху», в первую половину XV в. было зарегистрировано 62 умалишённых; 31 человек был изгнан из города; за следующие пятьдесят лет, судя по дошедшим до нас свидетельствам, еще 21 человек не по своей воле покинул город – причём речь идёт только о безумцах, задержанных муниципальными властями.
Во Франкфурте-на-Майне магистрату было проще: город стоял на полноводной и судоходной реке, так что ноги можно было не бить. В архивах города хранятся истории о выпроваживании сумасшедших за его стены. Так, в 1399 году бегал у них один такой по городу голым. Что, сами понимаете, не способствовало орднунгу и сильно смущало местных фрау и фройляйн. Вот и дали власти города распоряжение: наготу прикрыть, провожатого выделить, в лодку посадить – и дрифтен вниз по течению нах… ну вы в курсе, что и в немецком, и в русском это слово так или иначе обозначает направление. В общем, куда подальше.
Через 7 лет, в 1406 году, рыбакам велели другого помешанного аж до Майнца прокатить – а это, если кто не в курсе, уже на Рейне. В 1427 году сошедшего с ума подмастерья кузнеца дважды катали туда. Да всё без толку – оба раза обратно дорогу находил. На третий раз, одев бедолагу (ибо вернулся в город гол как сокол), дали указание – везите, мол, ещё дальше, нах… да хотя бы нах Кройцнах. Оттуда, судя по всему, подмастерье обратно уже не добрался – во всяком случае, продолжения эта история в городском архиве не имеет. Хотя как знать: может, бедолаге пошли на пользу тамошние литиевые воды…
Скорее всего, из какого-то невероятного сплава этих городских хроник и общей народной готовности к чему-нибудь мистическому (а может, ещё и мифы про Ясона с его аргонавтами подсуропили) родилась на берегах Рейна легенда про Narrenschiff, загадочный корабль дураков, который ходит по Рейну и по фламандским каналам. С его борта доносится пьяный смех и дурацкая музыка, пьяна его команда (ну чисто алконавты), и пьяны его пассажиры. Так что расти умным, сынок, – неровён час, приплывёт за тобой Корабль дураков и увезёт к чёрту на рога!
Позже легенда эта найдёт отражение и в поэме «Голубая шаланда» Якопа ван Устворена (1413), и в сатирической поэме Daß Narrenschyff ad Narragoniam Себястьяна Бранта (1494), и в картине «Корабль дураков» Иеронима Босха (1495–1500), вернее, в верхней части триптиха. А в герцогстве Бургундском Корабль дураков станет вполне себе официальным государственным мифом: мол да, плавает тут у нас.
Что касается городских тюрем, то мера эта, несмотря на ожидаемые от мрачного Средневековья ужасы и кошмары, применялась далеко не ко всем сумасшедшим подряд. Для этого надо было действительно сильно отличиться буйством или чем-то ещё, сильно мешающим горожанам, либо крепко насолить магистрату. И при этом быть одиноким либо попасть в ситуацию, когда родня не в состоянии с тобой справиться, держа от чужих глаз подальше.
Сохранилось прошение, написанное в XV веке: подмастерье ткацкого цеха просит наладить своего слабоумного брата в тюрьму. Дескать, и рад бы держать его взаперти сам, да нет никаких сил. Уже и комнату в частном доме для него снимал, но вы же сами знаете, какие нынче цены – вот и вогнал себя в расходы предвиденные, но непомерные.
Осталась в исторических документах и ещё одна ситуация. Мясник Клезе Нойт был горожанином обеспеченным, даже богатым. И родня, даже если бы и не отважилась держать его дома своими силами, уж всяко смогла бы отжалеть деньгу на наём квартиры и добрых христиан покрепче. Ан нет, в 1415 году пациента заточили в самый крепкий каземат городской тюрьмы, да аж трёх сторожей приставили, «дабы Клезе Нойт, мясник, не вырвался из тюрьмы». Видимо, сильно человек отличился.
Справедливости ради стоит сказать, что не тюрьмами едиными городские власти ограждали себя и горожан от беспокойных безумцев. Могли и просто в подвал под ратушей посадить. Ну мало ли: тюрьма переполнена или условия там не те. В некоторых городах – в Гамбурге, Брауншвейге, Нюренберге, Франкфурте, например – внутри городских стен оборудовали Tollenkisten (буквально – «ящики для бешеных»). Это небольшие такие камеры с крохотным зарешеченным окошком на улицу – в самый раз, чтобы протянуть руку за милостыней. Или нехитрым угощением: всё-таки милосердие людям было не чуждо и в те времена, а по праздникам так сам бог велел. Местной детворе, опять же, развлечение: подразнить сумасшедшего безнаказанно, нравы-то проще были.
В Гамбурге, видимо, городских сумасшедших оказалось довольно много, либо городские власти отличались методичностью подхода к их размещению – во всяком случае, в 1376 году, помимо Tollenkisten, в одной из башен городской стены оборудовали помещение размером побольше. Называлось оно на официальной латыни cista stolidorum – ящик для безумных. Или custodia fatuorum, сиречь карцер для дураков.
В Любеке Tollenkisten располагались прямо внутри городских ворот (угадайте: Бургтор или Холстентор?), благо массивность сооружения позволяла.
Тут нужно заметить, что безобидных сумасшедших – тех же имбецилов и дефектных шизофреников, спокойных и не особо смущающих покой горожан и крестьян, никто особо не пытался куда бы то ни было упрятать. Ну бродят себе по дорогам, улицам и площадям, милостыню выпрашивают – и ради бога.