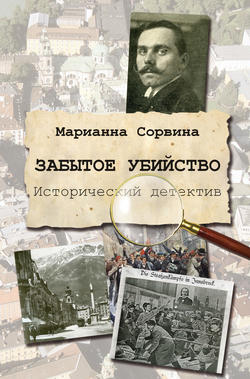Читать книгу Забытое убийство - Марианна Сорвина, М. Ю. Сорвина - Страница 11
Часть 2. Тироль на фоне кризиса
2.1. Злополучный университетский вопрос
ОглавлениеИтало-австрийский конфликт в Тироле начался задолго до политического кризиса разваливающейся Австрийской монархии – с конца 60-х годов XIX века, когда большинства участников этой драмы еще не было на свете. Он был связан с особенным положением Тироля, земли, исторически населенной людьми разных национальностей.
Тироль – это не собственно австрийцы, немцы, ладины или итальянцы, но нечто принципиально иное, государство в государстве, сравнимое разве что с многонациональной Швейцарией, но в политическом отношении гораздо более темпераментное.
Австрийские историки довольно часто обращались к проблемам монархии рубежа веков, отразившимся и на жизни Тироля.
Исследователь Михаэль Гелер располагает основные признаки патовой ситуации в следующей последовательности:
1) нарушение принципа законности (вызов монархической системе, алтарю и Божественной благодати);
2) кризис парламентаризма как первый признак конфликта между национальностями;
3) кодекс чести и дуэль как метод утверждения своего социального статуса;
4) примат национальной и культурной гегемонии как выражение политического и идеологического господства в университетах;
5) политическая состязательность католицизма и науки (обсуждение секуляризма и модернизма) и постулат о свободе научных доктрин;
6) шпионаж и тайная дипломатия в нарушение ограничений, установленных служебной тайной и политическими обязательствами;
7) индивидуальный террор как выражение всемогущества политического насилия и убийство как средство управления политическими конфликтами;
8) дипломатические и политические скандалы, имеющие целью поиск врага и провоцирование вооруженного конфликта[77].
Упоминает о традиции дуэлей (в основном в студенческой и офицерской среде) и его коллега Андреас Бёше[78]. Он рассматривает этот вопрос применительно к студенческому клубному движению второй половины XIX века. Бёше даже называет в качестве одной из жертв этой традиции известного социал-демократа Фердинанда Лассаля, застреленного в 1864 году графом фон Раковицем. Однако этот пример представляется не слишком удачным, поскольку в том конкретном случае дуэль носила не политический, а частный характер (Раковиц женился на возлюбленной Лассаля.) Очевидно, историк упоминает об этом поединке из-за членства Лассаля в одном из активных германских братств – «Burschenschaft der Raczeks Breslau»: инициатива дуэли исходила от неудачливого соперника, не умевшего решать свои проблемы иными способами.
Оружием, которым пользовались дуэлянты, были преимущественно револьверы, сабли и шпаги, а сами поединки сопровождал театральный, показной дух. Фихте называл дуэли «антинемецкой, привнесенной из-за границы традицией», имея в виду французское влияние[79]. Кстати, запрет на армейские дуэли в Австрии был введен лишь в 1914 году по инициативе того же тирольского депутата Карла Грабмайра, выступившего на заседании Венского парламента с проникновенной и убедительной речью[80].
Уменьшенной проекцией «государственной» дуэли Бадени и Вольфа стали участившиеся «поединки чести» тирольских студентов – представителей различных братств и конфессий. Достаточно было одному из студентов случайно или неслучайно задеть другого в коридоре, как за этим следовало требование сатисфакции, и уже через пару часов противники находили тихое местечко для выяснения отношений, например, обширный городской сад, в котором имелось множество тенистых закоулков. Дрались немцы старомодно – преимущественно на шпагах: револьверы были оружием итальянского студенчества.
Администрация университета боролась с дуэлянтами – прибегала к штрафам, временным арестам и запрету на посещение лекций, но ничего сделать не могла: общества, братства и партии уже существовали сами по себе – в политическом контексте страны.
* * *
Историки отмечали, что вопрос о создании независимого итальянского университета или факультета неоднократно поднимался в австрийской монархии, но на правительственный уровень переговоры вышли только к началу XX века. Территориальных предложений по расположению факультета было три – Триест, Роверето, Инсбрук.
Однако «не хватало единого и комплексного принятия решений»[81].
Причиной появления инициативы по созданию отдельного факультета и дальнейшей национальной непримиримости сторон были «национальная обида и ксенофобские лозунги вроде “Итальянцы, вон!” и “Долой из Австрии!”»[82].
На самом деле националистический лозунг звучал не «Итальянцы, вон!», а гораздо грубее – «Велши, вон!» («Welsche, raus!»). Название «Welschen» обозначает романские и ретороманские народы, живущие по соседству, и в Тироле это слово имело не нейтральную (как в Швейцарии), а негативную окраску. В контексте тех событий, о которых идет речь, оно применялось по отношению именно к итальянцам, причем уничижительно, как к народу второго сорта или народу-захватчику[83]. В ответ на это определение итальянцы применяли, с такой же негативной окраской, слово «tedescho»[84], по большей части означавшее не столько «немцы», сколько «немчура».
Любопытно, что и сотрудничавший в «Scherer» художник Август Пеццеи отнюдь не принадлежал к немецкой нации. Он был ладинского[85] происхождения. Но Пеццеи был выходцем из австрийской творческой элиты, известной в Инсбруке личностью, а судьба его сложилась трагично. Поэтому в газетах, уже настроенных националистически после случившегося в Инсбруке, его сразу же поспешили причислить к немцам: «Пролилась немецкая кровь!»[86].
Таким образом, «велшами» называли преимущественно уроженцев области Трентино-Альто-Адидже, говоривших на итальянском языке.
В первое десятилетие XX века в Австрийской монархии насчитывалось 768 422 гражданина, родным языком которых был итальянский. Из них 367 тысяч проживали в Трентино и 8 тысяч – в Северном Тироле. Немецкоязычных жителей в Северном Тироле было 500 тысяч, в Трентино – 15 тысяч[87]. То есть в Северном Тироле итальянцы по отношению к немцам составляли чуть больше полутора процентов, а в Южном Тироле немцы составляли по отношению к итальянцам три процента.
В этом цифровом балансе уже понятен прицельный интерес итальянцев: на земле, которую они считали своей, в округе Трентино, они занимали количественно господствующее положение, однако вынуждены были считаться с приоритетом государственного немецкого языка, а образование получали в других областях – либо в Вене (как более конформный Альчидо Де Гаспери), либо в Италии (как националистически настроенный Чезаре Баттисти).
* * *
Но к тому моменту в университете Инсбрука некоторые занятия уже проводились на итальянском языке, и началось это еще с 60-х годов XIX века. С зимнего семестра 1865 года были введены лекции на итальянском для студентов юридического факультета[88].
Некоторую абсурдность этому обстоятельству придавал тот факт, что лекции на итальянском читались немецкой профессурой.
Лишь в середине 1980-х годов началось быстрое назначение на преподавательские посты итальянцев. Это были преподаватели римского права (с 1884 года[89]), немецкого законодательства (с 1892), канонического права (с 1897), уголовного права Австрийской империи (с 1898), австрийского гражданско-процессуального права (с 1901), австрийского гражданского права и политической экономии (с 1903)[90].
К началу XX века большим авторитетом у итальянцев пользовались профессор Анжело Де Губернатис[91], криминолог Шипио Сигеле[92], экономист и юрист Франческо Менестрина[93]. Они были в числе тех профессоров, которых ирредентисты Тироля пригласили на открытие своего юридического факультета в Инсбруке в ноябре 1904 года. Учитывая скандальные и трагические обстоятельства, сопровождавшие это открытие, стоит вспомнить, что, по черной иронии судьбы, главным трудом Сигеле была книга «La folla criminale» («Криминальная толпа», 1909), посвященная как раз экстремистской, криминальной сущности агрессивного скопления людей. Этой работе он предпослал эпиграф из Энрико Ферри: «От соединения личностей в результате никогда не получается суммы, равной числу их единиц».
Граф Де Губернатис был заметной фигурой не только в науке, но и в политике. Даже его частная жизнь казалась продолжением политических интересов: он был женат на двоюродной сестре русского анархиста Михаила Бакунина. Профессор с самого начала активно занимался национальными меньшинствами Австро-Венгрии и написал несколько трудов о Далмации. Он обратил внимание на положение своих тирольских братьев по крови и в 1903 году начал рекламную кампанию в защиту итальянских подданных Австрии. Именно тогда он стал читать лекции в Инсбруке, постоянно подвергаясь обструкции со стороны немецких националистов. Особое, непримиримое, отношение к профессорам Де Губернатису и Лоренцони объяснялось еще и тем, что они использовали лекторскую трибуну не только для профессиональной информации, но и для изложения своих политических взглядов.
Когда профессор еще в 1903 году вынужден был покинуть Инсбрук из-за национального неприятия, рядом с центральным вокзалом его поджидали несколько сотен взбешенных пангерманистов, выкрикивавших слово «смерть!». Однако, при всей своей агрессивности, окружившие вокзал пангерманисты не прибегали к оружию. К тому же благодарные итальянцы проводили своего соотечественника на поезд, несмотря на оскорбления со всех сторон.
В 1904 году студенты-ирредентисты пригласили его на открытие итальянского юридического факультета в Инсбруке, и профессор с охотой согласился, хотя и понимал всю рискованность этого предприятия. Его это событие привлекло еще и возможностью создать резонанс в газете, которую он издавал. По некоторым данным, именно ему принадлежало ставшее историческим итальянское определение кровавых событий ноября 1904 года – «Fatti di Innsbruck». Дословно это означает – «Факты в Инсбруке», поскольку Де Губернатис сделал акцент на достоверность в передаче событий его газетой. Как он понимал, эти же события будут потом искажаться в других изданиях.
После того, что произошло осенью 1904 года, власти отказали ему, как и другим профессорам-итальянцам, в проведении лекций и конференций, несмотря на то, что все арестованные ирредентисты уже были выпущены на свободу без всяких судебных разбирательств. Но во многом и отстранение профессоров, и арест студентов были вынужденной мерой властей Инсбрука – для предотвращения дальнейшего кровопролития.
* * *
Националистическому неприятию поначалу никто не придавал значения, но оно начало нарастать уже с того момента, как только стали появляться первые параллельные итальянские курсы в Тироле. Стремительный рост количества дисциплин на итальянском языке вызвал волнение даже в университетском академическом совете. Конформистски настроенный совет поначалу занял половинчатую, выжидательную позицию, но высказал свое личное мнение: «Мы не отрицаем необходимости этих кафедр и организаций, но все же должно быть достигнуто единство немецкой профессуры в университете и в экзаменационной комиссии для немецких слушателей, чтобы не было нанесено необратимого вреда образованию»[94].
Эти антиитальянские настроения развивались еще в течение нескольких лет после введения курсов. Постепенно университет Инсбрука в конце XIX века превратился в средоточие национализма со стороны немецко-австрийского населения Тироля.
В этих кругах его продолжали считать не местом для решения национальных вопросов, а чисто немецким академическим и образовательным университетом. Отчасти это было связано с довольно влиятельной ролью инсбрукской исполнительной власти, в первую очередь – бургомистра Вильгельма Грайля, представлявшего австрийские буржуазные круги, и его заместителя Эдуарда Эрлера, активного пангерманиста, создателя Народной партии и газеты «Tiroler Tagblatt». Эти двое пользовались в Тироле большим авторитетом. Такую же политическую позицию занимали два других заместителя Грайля – Венин и Шалк.
При этом в самой «Немецкой Австрии», этом государстве в государстве, культивировалась разветвленная система всевозможных клубов, ассоциаций и братств.
Они заручались девизами чести, верности, патриотизма, и членство в них становилось пожизненным и даже наследственным.
В общества «Akademischer Alpenklub»[95], «Burschenschaft “Germania”»[96], «Innsbrucker Akademische Burschenschaft Brixia»[97], «Burschenschaft “Pappenheimer”»[98], «Akademische Burschenschaft Suevia»[99] и пр. входили политики, интеллигенция, студенты и профессора.
С одной стороны, эти зародившиеся в габсбургской монархии многочисленные объединения, по словам историка Михаэля Гелера, служили основой для будущего партийного строительства в стране[100], с другой – формировали и подогревали узкогрупповые интересы, национализм, круговую поруку, а иной раз – экстремизм и опасную «la folla criminale», о которой писал Сигеле.
Историк Андреас Бёше еще более категоричен: критически описывая нравы студенческих братств 60–70-х годов XIX века, он делает вывод о зарождении воинственных расистских взглядов, которые приведут впоследствии к национал-социализму и холокосту. Историк пишет о принятом в обществах разнузданном духе сексизма и шовинизма, в частности о лозунге одного из братств – «Больше настоящих мужчин, больше поступков!», а также о приверженности студентов к выпивке (за ними даже закрепилось название «пивные мальчики») и коллективном посещении борделей, возведенном в культ мужской удали[101].
* * *
Австрийские профессора тоже не стояли в стороне от конфликта, поскольку многие из них пришли как раз из немецких националистических или либеральных кругов. Они сами принадлежали к немецким клубам и братствам, собиравшимся на свои заседания и часто лишь подливавшим масло в огонь.
Вскоре к ним присоединилась и более умеренная католическая немецкая профессура, сказавшая свое веское слово против двуязычного университета Инсбрука. За профессурой потянулись и студенты из католических сообществ («AKStV Tirolia», «AV Austria», «Unitas und Finkenschaft», «AV Helvetia Oenipontana», «KdStV Leopoldina», «Akademischer Leoverein», «KdStV Rhenania»). Это даже сблизило на какое-то время студентов-католиков и национал-либералов, отрицавших католицизм как власть Ватикана и поддерживавших лозунг Шёнерера «Долой Рим!».
В 1869 году профессор Эмиль Кляйнсрод, выходец из Германии, утверждал, что Тироль «больше не нуждается в итальянской профессуре…»[102]. А чтобы это не походило на излишнюю жесткость с элементами шовинизма, профессор аргументировал свою точку зрения тем, что это делается «не для насильственного подавления итальянского языка в Тироле, но исключительно против тех, кто систематически настаивает на «вельшенизации» земель короны и призывает к тайной подрывной войне, направленной на уничтожение немецкого элемента».
«Невозможно вовсе не замечать, – говорил профессор, – что для Цислейтании только немецкий язык и немецкая природа, имеющие высококачественные политические основы, не нуждаются в совершенствовании. Тысячелетняя память и основные культурные традиции укоренились в современной Австрии больше, чем ранее, именно в немецком элементе, как наиболее твердом и чистейшем источнике всей цивилизации, – и где же еще искать надежды на будущее, как не в Германии?!»[103]
В своем высказывании немецкий профессор не был совсем уж неправ. Тот, кто сразу же отвергнет эту мысль из-за ее своеобразной формы и избыточной экспрессивности, очевидно, просто плохо себе представляет истинное положение вещей в Австро-Венгрии, и в Тироле особенно.
Идея создания итальянского юридического факультета была окончательно похоронена властями в 1891 году, когда университет, опасаясь распада образования, упразднил параллельные курсы с преподавателями и профессорами. Профессор Хруца[104] вообще нагнетал напряжение, прогнозируя «тройную форму обучения», поскольку «еще и славяне, уже активизировавшиеся на юге и севере, мечтают тоже переехать в Инсбрук»[105].
77
Michael Gehler. Il contest politico della monarchia asburdica nel 1904 // Università e nazionalismi Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di guirisprudenza italiana. – Museo storico del Trentino, 2004. P. 14.
78
Andreas Bösche. Zwischen Kaiser Franz Joseph I. und Schönerer: Die innsbrucker Universität… Innsbruck, Wien, Bozen: Studienverlag, 2006. S. 32.
79
Ibid. S. 32.
80
Karl v. Grabmayr. Erinnerungen eines Tiroler Politikers 1892–1920… S. 176.
81
Günter Pallaver, Michael Gehler. Introduzione // Università e nazionalismi Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di guirisprudenza italiana. -Museo storico del Trentino, 2004. P. 7.
82
Ibid. P. 7.
83
В Тироле рубежа веков еще памятны были сражения с итальянскими интервентами пятидесятилетней давности – 1848 года, когда будущий глава «младотирольцев» Адольф Пихлер с венским студенческим ополчением боролся против захватчиков.
84
В книгах и газетах применяется два написания этого слова – «tedesco» и «tedescho».
85
Ладины относятся к ретороманским народам и говорят как на немецком, так и на ретороманском, ладинском и итальянском языках, кучно проживают в Доломитовых Альпах.
86
Innsbrucker Nachrichten, № 252, 4 Nov. 1904, S. 1. – С такими же заголовками вышли другие газеты, посвященные этому событию.
87
Vgl. Kostner. Geschichte der italienischen Universitätsfrage, S. 9.
88
Andreas Bösche. Zwischen Kaiser Franz Joseph I. und Schönerer: Die innsbrucker Universität… Innsbruck, Wien, Bozen: Studienverlag, 2006. S. 110.
89
С 1894 по 1904 год римское право в Инсбруке читал Джованни Паччиони.
90
Andreas Bösche. Zwischen Kaiser Franz Joseph I. und Schönerer… S.111.
91
Анжело Де Губернатис (Angelo de Gubernatis) (1840–1913) – граф, публицист, поэт, преподаватель санскрита.
92
Шипио (или Сципион) Сигеле (Scipio Sighele) (1868–1913) – социолог и криминолог, последователь криминологов Ч. Ломброзо и Э. Ферри, автор работ по психологии формирования криминального элемента.
93
Франческо Менестрина (Francesco Menestrina) (28 марта 1872–11 апреля 1961) – профессор, юрист, экономист и публицист, выходец из Тренто, выпускник и профессор Инсбрукского университета. Преподавал право на итальянском языке вплоть до закрытия курсов.
94
Andreas Bösche. Zwischen Kaiser Franz Joseph I. und Schönerer… S.111.
95
«Akademischer Alpenklub» («Альпийский клуб») – чрезвычайно популярное в Австрии общество, члены которого увлекались альпинизмом, историей и этнографией Альпийских гор.
96
«Burschenschaft «Germania»» – пангерманское общество сторонников «Германской Австрии», образованное в 1892 году.
97
«Innsbrucker Akademische Burschenschaft Brixia» – общество, образованное 10 ноября 1876 года из студентов-выпускников города Бриксен.
98
«Burschenschaft “Pappenheimer”» – общество, образованное 27 октября 1884 года.
99
«Akademische Burschenschaft Suevia» – общество, образованное 2 декабря 1868 года из студентов Форарльберга.
100
Michael Gehler. Il contesto politico della monarchia asburgica nel 1904 // Università e nazionalismi Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di guirisprudenza italiana. – Museo storico del Trentino, 2004. P. 15.
101
Andreas Bösche. Zwischen Kaiser Franz Joseph I. und Schönerer… S.36–37.
102
Andreas Bösche. Zwischen Kaiser Franz Joseph I. und Schönerer… S.111.
103
Ibid. S.111
104
Эрнст Хруца (Ernst Hruza) (12 мая 1856–1 марта 1909) – родился в Праге, специалист по римскому и австрийскому гражданскому праву, преподавал в университете Инсбрука в 1896–1909 годах. В 1897–1898 годах был ректором.
105
Andreas Bösche. Zwischen Kaiser Franz Joseph I. und Schönerer… S.111.