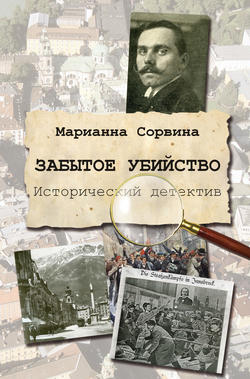Читать книгу Забытое убийство - Марианна Сорвина, М. Ю. Сорвина - Страница 13
Часть 2. Тироль на фоне кризиса
2.3. «Paese grande»[115]
ОглавлениеРядом с Тиролем все время ощущалось горячее дыхание союзной средиземноморской державы, некогда владевшей этими землями и теперь получившей на них мощного троянского коня в лице ирредентистских студенческих организаций.
Италия[116] начала XX века была страной идеализма, эстетизма и университетов. Сочетание ветхой древности с радикально-экстремистским стремлением к новизне определяло настроения итальянцев, придавая итальянской культуре рубежа XIX и XX веков неповторимый авантюрный шарм и декадентский привкус. Страсть к созданию всевозможных великих теорий и всеобъемлющих энциклопедий охватила интеллигенцию. Журналисты были философами, а философы – журналистами. Двое самых энергичных из этой братии – Джованни Джентиле[117] и Бенедетто Кроче[118] – сочиняли о великом будущем манифесты и статьи для журнала «La Critica».
Это идеалистическое и антиметафизическое будущее было до того красивым и неясным, что едва ли когда-нибудь могло из мечты перерасти в реальность, но в нем виделась никогда не заканчивающаяся революция, переворот во всех областях жизни: «Автор сего полагает, что один из самых больших успехов Италии за последние десятилетия – соблюдение правил, установленных университетами, школами и другими учреждениями образования в методах поиска и архивации. Поэтому автор является убежденным сторонником того, что называется историческим или филологическим методом. Но с той же убежденностью он считает, что подобного метода недостаточно для удовлетворения всех потребностей мысли. Следует способствовать пробуждению философского духа в обществе. В этом смысле критика, историография и сама философия могут извлечь пользу из продуманного возвращения к традициям познания, в которых сверкала идея духовного синтеза, идея гуманизма. К несчастью, эти традиции оказались прерваны после завершения итальянской революции»[119].
* * *
В то же время в литературно-политических салонах культурной аристократии набирал силу уже упомянутый ранее эстет Габриеле Д’Аннунцио – будущий автор не только романов, пьес, статей и стихотворных сборников, но и того самого осужденного австрийским кайзером в 1915 году «предательства, какого не знает история».
Да, это его, Габриеле, идея – предать договор с Австрией и поторговаться с Антантой за Южный Тироль. Его, а вовсе не уроженца Тренто Чезаре Баттисти, готового расшибить себе голову за эту идею. А ведь Д’Аннунцио даже и не жил там, в Тироле, в Тренто. Зачем ему? Главное – ворваться, нашуметь, заявить о себе, а потом облить всех ледяным взглядом. И его будут вспоминать в истории как автора этого дерзкого прорыва. Одним – виселица, другим – слава.
В начале Первой мировой войны Д’Аннунцио выступал на политические темы: «Без нас они сыграли фарс объединения в Лигу – объединения, которое разъединяет. Они замышляют подписать без нас этот клочок бумаги, который у них называется справедливым миром. Без нас они уже готовятся извлечь выгоду из нашей нерешительности и нашей медлительности! Итак, я утверждаю – если наши руководители вернутся на те же места, все будет потеряно, даже честь!»[120]
Его выступления режет цензура, но память остается.
Чезаре Баттисти был героем и молодежным лидером в Южном Тироле. В Риме он лишь один из борцов ирреденты, один из политиков-эмигрантов. Его еще мало замечают и мало откликаются. И пока Д’Аннунцио громогласно презентует свою идею в салонах аристократии и коридорах власти, Чезаре идет на радикальный шаг – он врывается в кабинет императора Виктора-Эммануила и страстно убеждает его, тоже географа по образованию, что вступить в войну за итальянский Тироль необходимо, потому что у них, трентинских итальянцев, есть все, чтобы победить, – знание местности, силы, воля, готовность умереть за правое дело. И ведь убедил.
Странно это – умереть за свою родину, но за чужую идею. А ведь именно такое с ним и случится: он пойдет воевать за идею, громко высказанную заносчивым поэтом Рапаньетта из провинции Абруцца, автором салонных эротических романов и пьес о сверхчеловеке.
При упоминании идеи освобождения Тренто имя Чезаре Баттисти в словарях даже не упоминается. Он не герой этого прорыва, а его священная жертва.
Сам шумный синьор Рапаньетта-Д’Аннунцио тоже сначала повоюет за свою идею с оружием в руках, но – вот досада! – на фронте ведь нет публики, и аплодисментов ему не дождаться. И тогда он совершит резонансный поступок. Кому еще, кроме Д’Аннунцио, пришло бы в голову на самолете кружить над Веной, разбрасывая вороха листовок?[121] Это ведь гораздо интереснее, чем потрясать стихами общество дремотной, пропахшей цветами и пудрой итальянской гостиной. Поэту Д’Аннунцио мало было сочинять причудливые монументальные драмы о мертвых людях на живых обломках великого римского прошлого, вроде «Мертвого города». Ему мало было придумывать новеллы, исполненные эротизма, величия и духа смерти. Ему мало было слыть патриотом, философом, политиком. Д’Аннунцио желал быть не только творцом, но и музой: он желал не только красиво писать, но и красиво жить. От несчастной любви к этому искусительному триумфатору великая актриса Элеонора Дузе резала себе вены, маркиза Карлотти ушла в монастырь, а графиня Манчини попала в сумасшедший дом. Д’Аннунцио ничего не стоило похитить аристократку из почтенного семейства только для того, чтобы, узаконив брак, обрести вожделенный дворянский титул. В Италии титул – это стильно и престижно, она еще жила вкусами дряхлеющих времен. Особенно титулы нравились дамам. Одна только Айседора Дункан не отвечала ему взаимностью, потому что слишком уважала Элеонору Дузе и ее чувства к этому буйному поэту.
Позднее апологеты и биографы Д’Аннунцио, оказавшиеся во власти сокрушительного обаяния этой личности, не могли прийти к единому знаменателю при создании внешнего портрета: одни видели его брутальным провинциалом с крепкими рабочими руками и глазами мелкооптового торговца, другие – утонченным столичным дворянином с изящными пальцами и томным взором. Художник Бенуа вообще изобразил его штрихами – в виде эскиза, где человека не разглядеть, а есть только загадка. Но он был не первым и не вторым, а чем-то еще, не похожим на свои портреты. Возможно, той самой загадкой с эскиза Бенуа. Ему это льстило.
Д’Аннунцио мог совершить нечто из ряда вон выходящее. Например, попытаться прорваться на встречу с американским послом, размахивая револьвером. Посол Пейдж[122] был в ужасе от эпатажных появлений этого сумасшедшего драматурга на политических раутах. Он и сам писатель, но в политике человек умеренный и спокойный. Пейдж даже пообещал: если 4 мая Д’Аннунцио опять пустят на заседание, дипломатические отношения США с Италией будут прерваны.
А возмущенный господин поэт Рапаньетта-Д’Аннунцио недоумевает: «Как так? Мы же вступили в войну! Выполнили все условия договора! Где обещанная Далмация? Где Фиуме?»
На заседании в Риме, даже в отсутствие буйного Д’Аннунцио с его револьвером, речь идет о том же самом – о Фиуме, ставшем камнем преткновения из-за преобладающего в нем итальянского населения. Премьер Орландо[123]с неподражаемой, почти самоубийственной, патетикой бьется с американским президентом Вильсоном[124] и недоумевающими западными дипломатами за этот город.
«Премьер Орландо: Я утверждаю, что, если Фиуме не будет передан Италии, это вызовет в итальянском народе столь сильную бурю протеста и ненависти, что они приведут в сравнительно недалеком будущем к глубоким конфликтам <…>
Я вновь настаиваю на своей мысли и утверждаю, что, если Фиуме не будет передан Италии, факт этот по своим последствиям окажется в огромной степени роковым как для интересов Италии, так и для международного мира <…>
Следует продолжительное молчание.
Вильсон: Невероятно, чтобы представители Италии встали на эту позицию!»[125].
Факт этот стал роковым в первую очередь для самого премьера Орландо: в 1919 году ему выдали в Италии вотум недоверия, и он ушел со своего поста. Можно себе представить и недоумение Вильсона: он впервые столкнулся с такой своеобразной манерой ведения дипломатических переговоров.
А пока политики совещались, мятежный писатель догадался, что Фиуме Италии не видать как своих ушей: премьера Орландо все эти англо-американцы уболтают, а город отдадут хорватам или сербам. Стоял сентябрь 1919 года, надеяться уже было не на что. И Д’Аннунцио плюнул на переговоры. Он просто сел в самолет, завел двигатель, полетел в Фиуме и… захватил город.
Самовольный захват города Фиуме писателем Габриеле Д’Аннунцио – одна из самых ярких и авантюрных страниц истории, напоминающая анекдот. Впрочем, Антанте было не до шуток. В захваченном городе во главе двух тысяч ополченцев итальянский поэт почти два года сидел самопровозглашенным бургомистром, а изумленные страны-союзницы не могли его оттуда выкурить никакими силами. При этом хитрый Д’Аннунцио вовсе не отвергал политических решений Рапалло и не собирался включать Фиуме в состав Италии, тем более что Италия и сама вынуждена была объявить мятежному поэту бойкот.
Эстет Д’Аннунцио поступил оригинальнее: он провозгласил город Фиуме независимой Республикой Красоты, конституция которой была написана им самим, и, разумеется, в стихотворной форме. Он поднял над городом красный флаг с девизом «Кто против нас?» и назначил на пост министра культуры своего друга, дирижера Артуро Тосканини.
Неизвестно, что было бы дальше, если бы в конце декабря 1920 года Республику Красоты не обстрелял лишенный творческого воображения британский флот. Лишь после этого самопровозглашенное государство было покинуто его создателями.
Остается только удивляться, как при такой насыщенной жизни Габриеле Д’Аннунцио удалось умереть в преклонном возрасте от апоплексического удара.
Вот такие они, эти римляне.
* * *
А в первом десятилетии века Чезаре Баттисти еще не был ни депутатом Венского парламента, ни лейтенантом отряда «альпини», ни австрийским дезертиром, ни итальянским великомучеником. Он продолжал свою политическую и издательскую деятельность в Тренто. И как всякому лидеру политического движения, ему хотелось иметь преданных делу учеников. Вот почему он с такой радостью привлек к работе одного перспективного юношу, выходца из простой, но политически грамотной семьи сельского кузнеца.
У молодого человека был неподвижный взгляд сливовых глаз и грубоватые манеры, но он был напорист, настойчив и очень убедителен. Чезаре даже сделал этого замечательного молодого социалиста редактором своей газеты, увидев в нем преданного ученика и продолжателя дела итальянского патриотизма.
Такое пристрастие Баттисти у многих вызывало недоумение: юноша казался необразованным и даже социально неадекватным, попросту говоря – внесоциальным. Есть какая-то ирония в том, что в детстве этого мальчика определили в школу монахов города Фаэнцы, хотя уже тогда он имел явные криминальные наклонности и был жесток и мстителен. Впрочем, то был не единственный пример в истории, когда будущие преступники и тираны начинали свой жизненный путь в стенах семинарии или монастыря.
Грубые манеры, самодовольный взгляд налитых злобой глаз и вспыльчивый нрав почему-то не смущали Баттисти, тем более что ученик постоянно демонстрировал преданность учителю. А кто против этого устоит? Не смущали его манеры и женщин: они слетались к этому юному борцу как мотыльки на свет. Лишь одна из них, политизированная русская эмигрантка и дама полусвета Анна Кулешова, не станет жертвой его харизмы и даст ему меткую оценку: «Сентиментальный стихоплет, начитавшийся Ницше». Впоследствии знавшие этого молодого человека люди подвергали сомнению только первую часть определения Кулешовой: сентиментальным этот юноша уже не казался.
Из школы подающего надежды отрока выгнали: он не брезговал поножовщиной и драками, воткнул старшекласснику стилет под ребро, угрожал директору местной фабрики палкой, а потом вообще сбежал и бродяжничал, промышляя воровством, вместо того, чтобы учиться. Как ему удалось все-таки получить аттестат зрелости, да еще и устроиться на работу школьным учителем, знает только история.
* * *
Италии начала XX века пока далеко до всех этих удивительных событий. И провинциальный молодой человек пока еще только посещает лекции профессора Вильфредо Парето на экономическом факультете в швейцарской Лозанне. Со своим будущим шеф-редактором и покровителем Чезаре Баттисти он еще не знаком, хотя уже знаком с эмигрантом Владимиром Лениным и русскими анархистами. Юноша тогда вполне определился со своим предназначением: ему пришлись по душе лекции Парето, на которых говорилось, что власть всегда принадлежит немногим избранным. Демократические и аристократические государства никогда не поднимались выше посредственностей. Можно достичь успеха, лишь доверив правление одной личности, одаренной большим талантом, более образованной, чем масса. Только такая личность сможет руководить массой и давать ей советы.
Себя он уже в 1902 году считал большим талантом, более образованным, чем масса, а всех остальных – толпой, состоящей из посредственностей. Но ведь это так типично для будущего политического лидера. Они эксцентричные люди, эти политики. У молодого ученика Баттисти и прозвище-то было эксцентричное – Маленький дуче. До Большого дуче оставалось совсем немного.
* * *
А в это самое время, когда век еще только начинается, ирредентисты Тироля отчаянно борются за свои права на маленьком клочке земли в надоевшем до оскомины чужом королевстве, которое по стечению обстоятельств оказалось для них домом. Самые энергичные из них уже видели в будущем объединение своей малой родины с Италией. Однако пока их единственным требованием оставался итальянский факультет права на австрийской земле.
В своем выступлении на конференции, посвященной столетию инсбрукских событий 1904 года, социолог Ева Бауэр отмечала, что сращивание университетского, студенческого вопроса с ирредентистами, «которые не посещали этот университет, наводит на мысль, что это было сознательным и продуманным решением, направленным на придание веса своим собственным <…> объединениям»[126].
В среде студентов ирреденты выделилась своя активная верхушка: Чезаре Баттисти – уже дипломированный доктор философии и глава социалистической партии Трентино, Антонио Пиджеле – журналист с юридическим образованием и социалистическими взглядами, и Альчиде Де Гаспери – студент-филолог четвертого курса Венского университета, член христианской Народной партии Тренто и правая рука трентинского епископа Эндричи. Верхушка эта оказалась далеко не однородна.
Чезаре Джузеппе Баттисти родился в Тренто 4 февраля 1875 года. Его родителями были богатый тирольский коммерсант и итальянская графиня из древнего рода Фоголари. В их семье Чезаре был младшим, восьмым, ребенком. Отец, хозяин магазина, умер в 1890 году, когда сыну было пятнадцать. В тот же год он поступил в среднюю школу Тренто, где сразу оказался в оппозиции к преподаванию гуманитарных дисциплин. Вместо немецких поэтов он декламировал итальянских. На уроках истории Баттисти интересовался не Австро-Венгрией и Наполеоновскими войнами, а историей Италии и Трентино. При этом он вызывающе пел на переменах итальянские песни, а то, что преподавали в школе, считал конформизмом.
Настроения, типичные для аристократического рода Фоголари, происходящего из трентинского Роверето и хорошо известного своими традициями с 10 сентября 1776 года, когда фамилии был пожалован рыцарский диплом. Дедушка будущего лидера ирреденты, граф Фоголари де Тольдо, был истинным рыцарем и отличался активным политическим поведением. Он даже приговаривался к смертной казни за свою деятельность, но был помилован. Его внуку повезет значительно меньше.
В 1893 году Баттисти поступил в университет Граца, но это было для него простой формальностью, и он вскоре бросил учебу. При этом он успел побывать еще и в Вене, где его появление не осталось незамеченным. В середине ноября 1895 года в Вене вышел первый номер журнала «L’Avvenire» («Будущее») с подзаголовком «Organo per la sezione italiana del partito sociale-democratico in Austria»[127]. В этом номере было три материала Баттисти – «La sezione italiana del partito sociale – democratico in Austria»; «Patria e socialism»; «Istruitevi ed istruite»[128]. Журнал первоначально создавался в Тренто, но был запрещен к печати, поэтому появился в Вене. Впрочем, там на него тоже наложили запрет.
Через год Баттисти уехал в Италию, где стал студентом Института высших исследований во Флоренции. Именно там он сделался приверженцем ирредентизма. Вокруг энергичного тирольца сформировался кружок единомышленников: Гаэтано Сальвемини, Дженаро Мондаини, Ассунто Мори, братья Рудольфо и Уго Мондольфо. К ним присоединилась и студентка из Брешии Эрнеста Биттанти, привлеченная обаянием тирольского бунтаря.
К социализму Баттисти привел во многом романтический ореол этого учения. Вообще очень многое в жизни и деятельности Баттисти приобретало романтический, экзальтированный оттенок. Социалистам нравилось, что их преследуют консервативные круги и правительство, что их деятельность полна опасностей. Эта приверженность была в большей степени основана на вере и в меньшей – на теории и науке. В 1895 году Баттисти отправился в Турин, где нарастало политическое движение, и принял участие в только что образованных трудовых комитетах.
Через год он вернулся во Флоренцию защищать диссертацию под руководством Джованни Маринелли. В университете Баттисти учился философии, этнографии и географии, что, бесспорно, имело колоссальное значение для знания родного края, а также горных склонов и пещер Тироля, по которым Чезаре лазил еще в детстве и куда он через полтора десятилетия отправится воевать на стороне Италии.
В апреле 1898 года Баттисти произвел впечатление своим выступлением на третьем съезде географического института итальянского языка во Флоренции, где сделал доклад об этнографии и итальянских диалектах Тироля. Диссертация, которую он представил в 1898 году в Королевском институте высших наук во Флоренции, была посвящена социологии, этнографии и географии Трентино. Работа называлась «Трентино. Очерк физической географии и антропогеографии», и в ней было точное описание горной системы, главы о тирольском населении и морфологии, прилагалось много авторских карт. Она имела большой успех, была опубликована в Трентино в 1898 году и выиграла на конкурсе как лучшая публикация.
Одобрив эту работу и поздравив доктора Баттисти, профессор Паскуале Виллари сказал ему, что перед ним открывается блестящая перспектива талантливого ученого. Возможно, так бы оно и было.
Работы Баттисти действительно представляли большой интерес: его исследования проводились с использованием критериев, которые до сих пор не устарели и выдержали испытание временем.
Баттисти думал об экономическом развитии Трентино, о вопросах занятости и социальной сферы, однако была в его работах одна особенность. Баттисти рассматривал этот регион исключительно в контексте итальянской экономики: опережая время, он просчитывал все так, будто Трентино уже являлся частью Италии – официально признанной государственной частью.
В 1898 году Баттисти стал издавать научно-исследовательский журнал «Tridentum», а в 1899 году – журнал «La Cultura geografica», но у него были совсем другие цели, далекие от чистой науки или культуры.
7 августа 1899 года в Италии двадцатичетырехлетний доктор Баттисти женился на Эрнесте Биттанти. Она была уже известной в светских кругах красавицей, разделявшей его убеждения и входившей в его флорентийский кружок. Тогда же, в 1899-м, он вернулся в Тренто вместе с женой. Эрнеста казалась женщиной необычной, особенно для итальянской провинции того времени: эмансипированной, образованной и политически грамотной. А Тренто в то время был именно итальянской провинцией Австрии.
В комментариях исследователя Джулио Бедески Чезаре Баттисти предстает «потомком дворянско-купеческой богатой и религиозной семьи, сыном хозяина продуктового магазина, жизнь которого могла бы течь спокойно, без потрясений, если бы он с самого детства не испытывал врожденного беспокойства, инстинктивного интереса к жизни и проблемам своих ближних. Это обратило его с юных лет к страданиям других, к изучению социальных противоречий в Трентино. Любовь к родной земле с самого начала соединилась в нем с осознанием рабства этой земли, периферийной провинции империи Габсбургов»[129].
Однако, несмотря на рабское и переферийное положение Тренто, там тоже процветали аристократические салоны, подобные римским. В этих салонах поддерживался дух светского общения, почитания искусства и политического вольномыслия. Чета Баттисти адекватно влилась в атмосферу местных салонов и была принята вольнолюбивым обществом.
Невесте было двадцать девять, говорили, что она относилась к своему более молодому супругу трепетно и несколько покровительственно. Впрочем, Эрнесту называли и ангелом-хранителем «сущего дьявола» Чезаре. В каком-то смысле это был идеальный «марксистский» брак: Баттисти смотрели не столько «друг на друга», сколько – «в одном направлении», преданно защищая свои идеалы. Тем не менее эта пара составила весьма интересную и очень крепкую семью, в которой выросло трое детей – Луиджи (1901–1946), Ливия (1907–1978) и Камилло (1910–1982).
Их первенец Джиджино (Луиджи) уже после Второй мировой войны стал бургомистром одного из городов Италии и погиб в железнодорожной катастрофе. Ливия создала Ассоциацию туристических и образовательных учреждений Тренто, а в 1972 году написала книгу о своем отце – «Чезаре Баттисти: процесс и самозащита»[130].
О Камилло Баттисти известно куда меньше, чем о старших брате и сестре. В отличие от родителей, брата и сестры он держался в стороне от активной политической жизни и посвятил себя профессии инженера-механика на заводе.
Кстати, в вопросе создания высокоидейной семьи земляк и будущий оппонент Баттисти Альчиде Де Гаспери его превзошел: он считал, что супругов должна сближать любовь к Всевышнему – тоже брак, в котором супруги смотрят в одном направлении, разница только в самой избранной идее. В 1921 году, сватаясь к Франческе Романи, он писал ей: «Личность живого Христа привлекает, покоряет и успокаивает меня, как ребенка. Приди ко мне, я хочу, чтобы нас вместе, как к пропасти, сотканной из света, влекло это упоение»[131].
* * *
После Первой мировой войны преданность Эрнесты Биттанти погибшему мужу носила несколько театральный характер, что, впрочем, типично для Италии, где вдова национального героя-мученика стала символом верности семье и политическим идеалам своего мужа.
Впоследствии об этой неординарной общественной деятельнице, авторе романтически-пафосного гимна города Тренто, будет написана книга «Эрнеста Биттанти Баттисти. Последняя женщина итальянского Рисорджименто»[132].
* * *
К 1904 году двадцатидевятилетний Баттисти уже окончил университет Флоренции, защитил диссертацию и был доктором философии, но его практическая журналистская и издательская деятельность значительно перевешивала по значимости его научные изыскания.
Вообще рубеж XX века представлял собой какое-то торжество политического эксгибиционизма: все поголовно жаждали издавать газеты и выплескивать свои взгляды и мысли на широкие массы. Газеты, газетки и листки множились как грибы после дождя. Каждое общество, каждое политическое ответвление хотело иметь свой орган информации. Такое положение является симптомом приближающегося партийного и политического строительства в обществе и передела старого мира.
Чезаре Баттисти издавал газету «Il Popolo» («Народ»), в которой клеймил австрийскую верхушку и предсказывал грядущие битвы с немецкими националистами Тироля за итальянский факультет. Его земляк Альчиде Де Гаспери издавал «Il Trentino», газету католической направленности.
Альчиде Де Гаспери родился в Тренто 3 апреля 1881 года. Его отец, Амедео Де Гаспери, гордился тем, что, будучи итальянцем, смог стать австрийским полицейским офицером, а потом и главой жандармерии. Для трентинских итальянцев, составлявших принципиальную оппозицию Австрийской монархии, такое участие в государственной карательной структуре выглядело не слишком патриотично.
В австрийской полиции, и особенно в австрийской армии начала века, было немало итальянцев, чехов, поляков, словенцев. В этом виделись политическая цель и точный расчет Габсбургской монархии, схожий с девизом «разделяй и властвуй»: разнонациональные вооруженные формирования, призванные поддерживать порядок в стране, не могли все разом перейти на чью-то одну сторону, например немецкую, которая также составляла внутреннюю оппозицию, опасную для центра. Сохранение стабильности и баланса позволяло разваливающемуся государству как-то существовать, несмотря на политический кризис и многочисленные проблемы. Но такое многонациональное формирование, особенно в армии, обладало высокой степенью гетерогенности и несло в себе не внешнюю, а внутреннюю угрозу для общества: отдельные лица в составе такой группы были фактически неподконтрольны, к тому же набирались туда люди часто непроверенные, подходившие по физическим данным.
Даже престижная государственная служба не страховала от вспышек ярости и националистических проявлений, вызванных состоянием аффекта.
Несмотря на верную службу в полиции, Амедео Де Гаспери пришлось на образование для детей взять благотворительный грант у государства. Возможно, именно это объясняет лояльное отношение Альчиде к Австрии: здесь он получил образование за государственный счет и был этой стране в значительной мере обязан. Это, по словам американского историка Пола Джонсона, заставило его «испытывать лояльность к королевскому дому, а не к национальному государству»[133].
Впрочем, получение гранта того стоило: Альчиде учился удивительно легко и вскоре овладел несколькими языками и философией. В Венском университете ему несладко пришлось из-за национальности: он ведь и попал туда в качестве исключения, как талантливый самородок. Горячий Баттисти, не учись он во Флоренции, такого бы, наверное, не стерпел – предпочел бы надавать обидчикам по физиономии. Но в этом и состояло отличие Де Гаспери от Баттисти: Альчиде, будущий деятель христианского движения, обладал терпением, а за годы учения овладел еще и остроумием, чтобы отвечать всяким «tedeschi» на их наглые выпады в адрес итало-тирольского чужака.
Одиночество, созерцательность и стоическое терпение обычно бывают востребованы в той области, которой себя впоследствии посвятит молодой Де Гаспери, – в религии. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Альчиде решил связать себя с католицизмом. Самым большим авторитетом для него стал назначенный в Трентино епископ Челестино Эндричи[134], и вскоре молодой Де Гаспери сделался его помощником и специальным представителем. Но это не мешало его обучению в Вене, где он собирался стать филологом, изучающим культурные связи итальянской и немецкой литературы. И там, в австрийской столице, у него тоже был свой идеал – мэр города Карл Люгер, сторонник обновленного католицизма и убежденный антисемит. Пол Джонсон, будто предвидя обвинения Де Гаспери в расизме, пытается объяснить его позицию:
«Он отправился в Венский университет, где испытал восторг от знаменитого бургомистра Карла Люгера, но совсем по иной причине, нежели Гитлер. Де Гаспери считал, что Люгер указал тот путь, которым надлежит следовать при осуществлении “социальных энциклик” самого прогрессивного святого папства. Так он и сформировался под влиянием немецкого католического популизма, и первые его публикации появились именно в австрийской католической газете “Reichspost”. Де Гаспери действительно почти не поддавался двум самым серьезным болезням нашей современности: этническому национализму и вере в то, что основанные на нем государства могут быть превращены в Утопии»[135].
Тем удивительнее постоянное участие Де Гаспери в заседаниях «Ассоциации студентов Трентино». Едва ли это радикальное политизированное общество могло быть ему интересно. С трентинским социализмом Де Гаспери расходился в вопросах религии, патриотизма и отношения к австрийской государственности – то есть практически во всем. Он имел свою личную точку зрения и на положение Южного Тироля. В сущности, он никогда не был сторонником присоединения этой части Австрии к Италии. Двойственность Де Гаспери, крайне последовательного и логичного в своих поступках человека, поражает.
Остается только гадать, что он вообще хотел обрести на этих собраниях и как попал в радикальную университетскую историю 1904 года.
Этот многоумный двадцатилетний студент, лишенный националистических амбиций и юношеского максимализма, не мог не привлекать внимания. В среде итальянских националистов он выглядел чужаком.
Очевидно, Де Гаспери, будучи итальянцем, все-таки считал, что у итальянского Тироля должно быть право на самоопределение и язык.
К злополучному факультету на Либенеггштрассе, а потом – на улицу Герцога Фридриха, в гостиницу «Белый Крест», где произошли основные события «Fatti di Innsbruck», его привел сам вопрос университетского образования, а не политические и национальные проблемы.
Из сказанного выше вовсе не следует, что Де Гаспери относился к австрийской системе власти некритично. Он неоднократно поднимал во время дебатов Ассоциации студентов Трентино так называемый «Questione Austriaca» («Австрийский вопрос») и так же, как все прогрессивные жители Австрии – будь то пантерманисты или ирредентисты, – говорил о необходимости перемен в изжившей себя монархии. Однако не мог не испытывать к этой монархии и своеобразных сыновних чувств: точнее – чувств официально признанного и обеспеченного «пасынка», которому дали возможность социально адаптироваться.
Средства и методы борьбы со старым порядком в ходе дебатов между Альчиде и ирредентистами предлагались разные, и это все больше увеличивало расстояние между членами итальянского лагеря, поскольку немногочисленные сторонники у Де Гаспери все же были.
Как позднее отмечал английский исследователь Джаспер Ридли, «католическая организация, называвшая себя Народной партией, приветствовала сближение с католической Австрией и относилась к движению за объединение с Италией подозрительно, как, впрочем, и во времена Рисорджименто[136].
Их газета “Il Trentino” издавалась молодым журналистом Альчиде Де Гаспери <…> Баттисти в своей “Il Popolo” вел полемику и с Фольксбундом[137], и с Де Гаспери»[138].
В то же время Де Гаспери порой шел на компромиссы с социалистами в этом вопросе.
Социалисты находились в положении конфронтации по отношению к действующей Церкви и часто привлекались к суду за выступления против конфессиональных сановников, но Де Гаспери это не отталкивало. И причиной столь странного отношения к происходящему был уже не только университетский вопрос. Де Гаспери притягивал сам Чезаре Баттисти, в котором он видел интересную личность и редкого противника, на котором можно оттачивать свои взгляды и ораторское мастерство. Спорить с лидером трентинских социалистов было увлекательно, но трудно и даже иногда болезненно: Баттисти умел убеждать. Но чем больше Альчиде слушал Баттисти, тем больше убеждался в собственной правоте.
Впрочем, была еще одна причина: молодому Де Гаспери казалось, что он должен что-то сделать, чтобы не допустить катастрофы, что такова его христианская миссия. Что катастрофа произойдет, Альчиде уже не сомневался. Эта катастрофа светилась в глазах Баттисти и его товарищей. И ее-то будущий премьер-министр Италии действительно считал «серьезной социальной болезнью».
* * *
Отношения Баттисти и Де Гаспери уже в то время не были безоблачными. Они расходились даже в самом университетском вопросе. Альчиде, например, на заседаниях итальянской студенческой ассоциации всегда выступал за компромисс – организацию факультета в любом предлагаемом австрийскими властями городе, тогда как Баттисти продолжал настаивать на Триесте – крупном культурно-промышленном центре Тироля.
Можно себе представить, как злились Баттисти и другие социал-патриоты, когда Де Гаспери, выходя на трибуну в Тренто в 1902 году, призывал: «Будьте же в первую очередь католиками, а потом – итальянцами!»[139]
«Я не одобряю идолизацию нации! Я просто не понимаю, что это такое, – провозглашал этот двадцатилетний юнец с лицом умудренного жизнью старца. – И еще я не понимаю, что такое “religione della patria” (“религия отечества”). Разве Бог не един для всех?»[140]
Когда Баттисти язвительно спрашивал его, считает ли он себя в таком случае демократом, его юный товарищ отвечал: «Я католик, итальянец, а потом уже демократ – именно в этом порядке!»[141]
Известен еще один факт: несколькими годами позднее в газете «Il Trentino» появились нападки одного католического священника на Эрнесту Биттанти. Эрнеста не сидела затворницей и вела активный образ жизни в светских кругах Тренто. Один из таких салонов принадлежал баронессе Джулии Туркати[142], большой почитательнице искусств, имевшей неплохое филологическое и искусствоведческое образование. Туркати сама пробовала сочинять стихи и превосходно играла на фортепиано.
В ее гостиных, расположенных на вилле Сопрамонте, встречались писатели, художники, журналисты и ученые. Об этом вспоминал один из завсегдатаев салона баронессы, историк и поэт Антонио Пранцелорес – впоследствии активный участник инсбрукских событий и соратник Баттисти. Украшением салона баронессы были и просвещенные итальянки, с которыми баронесса обсуждала не только искусство и политику, но и свои кулинарные рецепты. Занималась баронесса и благотворительной деятельностью, полагая, что Церковь уделяет этому недостаточно внимания. Однако такой публичный образ жизни едва ли отвечал католическим канонам поведения женщины. Дамы, посещавшие салоны, воспринимались как светские львицы и аристократические кокетки. Это и могло послужить причиной нападок священника. Впрочем, и свекровь Эрнесты, графиня Виттория, белоручкой отнюдь не была, она писала вполне профессиональные пейзажи и натюрморты, которые сегодня находятся в музее Роверето.
Но публикация, о которой говорит историк Ридли, не проясняет один момент: как такой материал мог появиться в газете, издаваемой политически и человечески корректным Де Гаспери. Скорее всего, причина в том, что в 1905 году епископ Эндричи поручил своему помощнику Де Гаспери курирование христианского печатного органа «Католический голос» («La Voce cattolica»), и тому было просто не до своей собственной газеты.
Джаспер Ридли так комментирует этот момент: «После статьи в “Иль Трентино”, где делались грязные намеки на жену Баттисти, Муссолини бездоказательно прошелся в “Л’Авенире дель лавораторе” относительно морали одного священника, активного деятеля католической партии. 29 мая Муссолини предстал перед трентским судом за клевету на священника и был приговорен к штрафу в 30 крон или трехдневному заключению.
Почти сразу после уплаты штрафа он был вновь привлечен к суду за статью в “Иль пополо”, обвинявшую трех католических священников в сексуальных домогательствах и хищении денег из церковного фонда. 5 июня Баттисти, как издатель газеты, был приговорен к семи дням заключения, а Муссолини – к трем. На этот раз без замены штрафом. Но Муссолини опротестовал этот приговор, и 9 июня апелляционный суд отменил его»[143].
Впрочем, такое заступничество дуче впоследствии не помешало Эрнестине Баттисти, ставшей антифашисткой, полжизни бороться с преданным учеником ее мужа, порвавшим с идеями социализма и превратившимся в тирана для собственной страны. Но боролась она и с Де Гаспери, в котором видела вечного оппонента своего мужа и которому, очевидно, внутренне не могла простить еще и того, что, в отличие от Баттисти, он жив и управляет страной, за которую погиб ее муж. По-человечески Эрнесту можно понять: Де Гаспери, постоянно выступая против патриотических и милитаристских призывов Баттисти, получил в итоге именно то, за что его оппонент отдал жизнь. Судьбы этих двух уроженцев Тренто сложились весьма причудливо в плане исторической и человеческой справедливости, хотя вины тут ничьей не было.
* * *
А в 1904 году Альчиде Де Гаспери сам еще был юным студентом: он заканчивал факультет литературы и философии в Вене, переводил и комментировал «Фауста» Гёте и поэзию Шиллера. До получения степени доктора филологических наук ему оставался год. 19 июля 1905 года Де Гаспери защитит диссертацию на тему «Комические герои Карло Гоцци и их осмысление в Германии».
Даже этот выбор темы по-своему символичен, ведь Де Гаспери переводил и комментировал также Шиллера и романтиков «Бури и натиска». Остановил он свой выбор на Гоцци далеко не случайно: сам Де Гаспери по своей человеческой сути не был ни романтиком, ни человеком Рисорджименто. В этом молодом человеке, впоследствии возродившем Италию после фашизма, уже тогда виделся жесткий прагматик и целеустремленный «просветитель». Романтиком и человеком Рисорджименто был как раз Чезаре Баттисти. «Героем» или «злодеем» – в данном случае неважно. Он принимал радикальные решения и совершал ошибки, потому что ставил на карту все.
* * *
Впоследствии историки не раз пытались подытожить труды Де Гаспери, Баттисти и других политически активных жителей Трентино, создать монументальный труд об истории этого края, но каждый раз перед ними вставал один и тот же вопрос: каким образом социализм, имевший повсеместно в Европе интернацио-налистические корни, смог трансформироваться в свою полную противоположность именно в Тироле?
И в основе этого радикализма, интервенционизма и ультра-патриотизма всегда оказывалась личность Баттисти, которого после его смерти готовы были возносить и поливать грязью, боготворить и продавать на сувениры. Историки признают, что позиция Баттисти серьезно угрожала социализму в Южном Тироле, поскольку могла дезавуировать его и превратить в неосуществимую утопию. Неумение Баттисти договариваться со своими собратьями по партии австрийцами разваливало саму партию. Австрийские социалисты как раз придерживались традиционных для социализма интернационалистических взглядов, таким же был и левый Триест, где сформировался так называемый австромарксизм. Ученый Эрнесто Честан называл доктрину Баттисти «non tanto il socialismo, quanto l’irredentismo» – «не столько социализмом, сколько ирредентизмом». Но наиболее логичным кажется вывод своеобразного биографа Баттисти – журналиста Клауса Гаттерера, писавшего, что Баттисти тринадцать месяцев провел в Италии, и это сделало его радикальным централистом.
По словам австрийского журналиста, такое преображение на первый взгляд кажется немотивированным, основанным на эмоциях, но более тщательный анализ показывает, что речь идет в данном случае о психологическом феномене – разрыве в сознании Баттисти, выступавшего сторонником централизованной национально-административной автономии. Он боролся одновременно на двух политических фронтах – за Трентино и за Италию[144].
116
В то время ее иногда назвали «Italia terza» – «Третья Италия».
117
Джованни Джентиле (Giovanni Gentile) (30 мая 1875–15 апреля 1944) – философ и педагог, автор идеалистических манифестов совместно с Бенедетто Кроче. Профессор философии в Палермо, Пизе и Риме. Став членом правительства Муссолини в 1923 году, разошелся с Кроче во взглядах. 15 апреля 1944 года во Флоренции к его автомобилю подошли под видом студентов трое партизан, Джентиле опустил стекло и был сразу же застрелен.
118
Бенедетто Кроче (Benedetto Croce) (25 февраля 1866–20 ноября 1952) – политик, историк, апологет неогегельянства, один из крупнейших философов начала XX века. Автор работы «Эстетика как наука выражения и как общая лингвистика» (1902). Называл свою систему взглядов «антиметафизическим идеализмом».
119
Premessa / La Critica, 1 Nov., Anno. 1902.
120
L. Aldrovandi Marescotti. Guerra Diplomatica. Milano, 1937. P. 225.
121
Габриеле Д’Аннунцио был летчиком и возглавлял 87-ю итальянскую эскадрилью.
122
Томас Нельсон Пейдж (Thomas Nelson Page) (23 апреля 1853–1 ноября 1922) – американский писатель, посол США в Италии в 1913–1919 годах. На эту тему в 1920 году опубликовал мемуары «Italy and the World War». Автор более 20 книг.
123
Витторио Эмануэле Орландо (Vittorio Emanuele Orlando) (19 мая 1860–1 декабря 1952) – итальянский политик, председатель Совета министров Италии в 1917–1919 годах.
124
Томас Вудро Вильсон (Thomas Woodrow Wilson) (1856–1921) -28-й президент США в 1913–1921 годах. В Первой мировой войне выступал за нейтралитет США, но активно проводил политику американского влияния.
125
L. Aldrovandi Marescotti. Guerra Diplomatica. Milano, 1937. P. 181.
126
Eva M. Bauer. Camerati, commilitoni e complici: struttura organizzativa del movimento studentesco italiano nella monarchia asburgica all'inizio del Novecento // Università e nazionalismi Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di guirisprudenza italiana. – Museo storico del Trentino, 2004. P. 121.
127
«Орган итальянской секции социал-демократической партии Австрии» (итал.).
128
«Итальянская секция социал-демократической партии Австрии»; «Родина и социализм»; «Воспитание и образование» (итал.).
129
Giulio Bedeschi. Notiziario del Gruppo Milano Centro «Giulio Bedeschi»: Cesare Battisti. 10–12 luglio 1916 / A cura di Andrea Bianchi. P. 3–4.
130
Livia Battisti. Cesare Battisti: processi e autodifese. – Trento: Arti grafiche Saturnia, 1972.
131
Paul Johnson. Modern Times: The World from the Twenties to the Nineties. – HarperCollins Publishers, 1991. P. 578–579.
132
Lina Anzalone. Ernesta Bittanti Battisti. L’ultima donna del Risorgimento. Città del sole, 2011.
133
Paul Johnson. Modern Times: The World from the Twenties to the Nineties. – HarperCollins Publishers, 1991. P. 578–579.
134
Челестино Эндричи (Celestino Endrici) (1866–1940) – первый епископ Трентино, назначен 3 января 1904 года и вступил в должность с 13 марта.
135
Paul Johnson. Modern Times: The World from the Twenties to the Nineties. – HarperCollins Publishers, 1991. P. 578–579.
136
Рисорджименто (il risorgimento, итал.) – досл. «возрождение», обновление – национально-освободительное движение итальянского народа против австрийского гнёта, за объединение раздробленной на мелкие государства Италии в единое национальное государство. Датируется периодом конец XVIII века – 1870 год.
137
Фольксбунд (Народный Союз) – организация трентинских немцев, приветствовавшая воссоединение с Австрией, своим героем считала Андреаса Хофера.
138
Джаспер Ридли. Муссолини / Пер. Левина. – М.: АСТ, 1999.
139
Paul Johnson. Modern Times: The World from the Twenties to the Nineties. – HarperCollins Publishers, 1991. P. 578–579.
140
Ibid. P. 579.
141
Ibid. P. 579.
142
Джулия Туркати (Giulia Turcati) (1 апреля 1848–3 августа 1912) – баронесса, уроженка Тренто, популяризатор итальянской культуры и меценат, содержательница крупнейшего литературно-художественного салона в городе.
143
Джаспер Ридли. Муссолини / Пер. Левина. – М.: АСТ, 1999.
144
В книге: Claus Gatterer. Unter seinem Galgen stand Österreich, Cesare Battisti. Porträt eines «Hochverräters», Europa Verlag, Wien u. a. 1967.