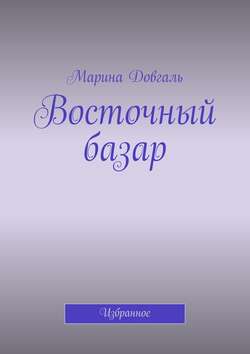Читать книгу Восточный базар. Избранное - Марина Григорьевна Довгаль, Марина Довгаль - Страница 10
Ваш Гоголь
Любовь
ОглавлениеЛюбовь имеет огромное значение в жизни человека. Она столь многогранна, задевает столько критериев жизненных, что решает проблемы и открывает глаза в мир иной: прекрасный; даже не побоюсь сказать – божественный. Без нее никак. Думаю, с этим многие согласятся. Поэтому хочу открыть пред вами Гоголя, как человека любящего и не только дело своей жизни, но и женщин, будучи при этом сам любимый. О первой своей любви писатель пишет в письме матери:
«Теперь, собираясь съ силами писать къ вамъ, не могу понять, отъ чего перо дрожитъ въ руке моей; мысли тучами налегаютъ одна на другую, не давая одна другой места, и непонятная сила нудитъ и вместе отталкиваетъ ихъ излиться предъ вами и всю глубину истерзанной души… Маминька, дражайшая маминька! Я знаю, вы одне истинный другъ мне. Поверите ли? и теперь, когда мысли мои уже не темъ заняты, и теперь, при напоминанiи, невыразимая тоска врезывается въ сердце. Однимъ вамъ я только могу сказать… Вы знаете, что я былъ одаренъ твердостью, даже редкою въ молодомъ человеке… Кто бы могъ ожидать отъ меня подобной слабости? Но я виделъ ее… нетъ, не назову ея… она слишкомъ высока для всякаго, не только для меня. Я бы назвалъ ее ангеломъ, но это выраженiе – не кстати для нея. – Это божество, но облеченное слегка въ человеческiя страсти. Лице, котораго поразительное блистанiе въ одно мгновенiе печатлеется въ сердце, глаза, быстро пронзающiе душу, но ихъ сiянiя, жгучаго, проходящаго насквозь всего, не вынесетъ ни одинъ изъ человековъ. О, еслибы вы посмотрели на меня тогда!… Правда, я умелъ скрывать себя отъ всехъ, но укрылся ли отъ себя? Адская тоска съ возможными муками кипела въ груди моей. О, какое жестокое состоянiе! Мне кажется, если грешнику уготованъ адъ, то онъ не такъ мучителенъ. Нетъ, это не любовь была… я по крайней мере не слыхалъ подобной любви. Въ порыве бешенства и ужаснейшихъ душевныхъ терзанiй, я жаждалъ, кипелъ упиться однимъ только взглядомъ, только одного взгляда алкалъ я… Взглянуть на нее еще разъ – вотъ бывало одно, единственное желанiе, возраставшее сильнее и сильнее, съ невыразимою едкостью тоски. Нетъ это существо, которое Онъ послалъ лишить меня покоя, разстроить шатко созданный мiръ мой, не была женщина. Если бы она была женщина, она бы всею силою своихъ очарованiй не могла произвесть такихъ ужасныхъ, невыразимыхъ впечатленiй. Это было божество, Имъ созданное, часть Его же самаго. Но, ради Бога, не спрашивайте ея имени! Она слишкомъ высока, высока!»
Неправда ли страстное письмо: своеобразный гимн любви. Удивительна сила чувств юного Гоголя. По Кулишу (первый биограф) это письмо отправлено 1829 году матери вместе с объяснениями Гоголя о его поездки за границу. Думаю, это не соответствует действительности: в письме явно заметно, что Гоголь встречал ту женщину не один раз. Видимо письмо о любви слишком эмоциональное было не датировано писателем или даже намеренно использовано Кулишом, для объяснения заграничной поездки писателя: не понимая причины которой, он объясняет ее, как убегание Гоголя от несчастной любви (действительные причины я указала в предыдущей главе). Скорее всего, письмо написано в период его учительства в Женском Патриотическом Институте (1831), где юноша мог увидеть женщину, поразившую его сердце и искать глазами в толпе благородных девиц. Добавлю несколько слов о Кулише. Читая его материалы, приходит мысль что биограф не опирается на жизненные факты, а подстраивает их для гладкости картины. Выводы его настолько ограничены, что вызывают сомнения в его компетентности и даже в умственных способностях.
Так кто же эта женщина, о которой так пылко пишет Гоголь? Он не называет ее имя матери и в других, каких бы то ни было источниках, что в письмах или сочинениях: ни слова ни полслова. Словно тема любви закрыта навсегда. Может быть, Гоголь был однолюб и, однажды испытав любовь, остался ей тайно верен. Я думаю, именно так и было, но почему же он не пытался добиться ответного чувства, не посветил ей стихи, как обычно поступают влюбленные поэты. А на тот момент (1829 год) он себя считал поэтом или уже нет? если взять в расчет не удавшуюся публикацию своих стихов, горькое в том разочарование и до конца жизни отказ от поэзии. А может быть причина в том, что Гоголь осознает свое несоответствие «высокой» даме. Он тщедушен и неказист, особенно длинный нос доставляет юноше огорчения, худ и невысок ростом (160см.), недостаточно знатен и беден, а в голове зреют наполеоновские планы, которые требуют сосредоточения и с любовью никак не вяжутся.
Александра Осиповна Смирнова-Россет (1809—1882), на мой взгляд, одна из претенденток на пылкость, о которой пишет Гоголь матери. Александра одногодка Гоголя. Даже день рождения их близок: у нее 6 марта, у него – 20. Но происходит она из знатного старинного французского рода, хотя и с примесью русских, украинских и грузинских по матери кровей (род князей Цициановых). Судьба Александры, однако, складывается негладко: отец ее, Осип Иванович Россет, отмеченный Суворовым за храбрость при взятии Очакова и стоящий у истоков рождения Одессы умирает там же от чумы (1814); через двенадцать лет умирает мать: Надежда Ивановна Лорер, обладавшая незаурядной красотой, которой сполна одарила дочь. Молодая девица тем временем получает образование в Екатерининском Петербургском Дворянском Институте, где учителем русской словесности был Петр Плетнев, знаменитый ученый, друг Пушкина, тот самый Плетнев, который (1831) участвует в устройстве Гоголя, устраивает в тот же институт, где учится Россет и знакомит его с Пушкиным. После смерти бабушки под опекой, которой находилась Александра ее по велению царя определяют во фрейлины царицы. Благодаря своей красоте, такту, девушка становится всеобщей любимицей. В нее были влюблены: Жуковский, Вяземский, Тургенев, Лермонтов. Из стихотворений, посвященных ей, можно составить поэтический сборник. Невольно вспоминается ироническое Пушкинское:
Черноокая Россети
В самовластностной красоте
Все сердца пленила эти
Те, те, те и те, те, те.
И Вяземское:
Южные звезды! Черные очи!
Неба чужого огни!
Вас ли встречают взоры мои
На небе хладном полночи?
Юга созвездье! Сердце звенит!
Сердце, любуяся вами,
Южною негой, южными снами
Бьется, томится, кипит.
Выставляя это стихотворение, невозможно умолчать об ответе Пушкина, который в то время любил Анну Оленину (в замужестве Андро) и даже сватался к ней, но получил отказ.
Она мила – скажу меж нами —
Придворных витязей гроза,
И можно с южными звездами
Сравнить, особенно стихами,
Ее черкесские глаза,
Она владеет ими смело,
Они горят огня живей;
Но, сам признайся, то ли дело
Глаза Олениной моей!
А вот Лермонтов со свойственной ему нотой грусти:
В просторечии невежды
Короче знать я вас желал,
Но эти сладкие надежды
Теперь я вовсе потерял.
Без вас – хочу сказать вам много,
При вас – я слушать вас хочу,
Но молча, вы глядите строго,
И я, в смущении, молчу!
Что делать? – речью безыскусной
Ваш ум занять мне не дано…
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.
Им же вторит неистовый демократ Белинский: «Свет не убил в ней ни ума, ни души, а того и другого природа отпустила ей не в обрез. Чудесная, превосходная женщина. Я без ума от нее».
11 января 1832 году императрица представляет, опекаемой ею двадцатитрехлетней сироте, бесприданнице, отличную партию: состоятельного чиновника Министерства иностранных дел Николая Михайловича Смирнова, богатого помещика и девушка выходит замуж. Это был явный брак по расчету, но что поделать в те времена браки складывались в своем большинстве не на небесах, а согласно принятого этикета.
Дружеские отношения между Александрой и Пушкиным завязались летом 1831 года (заметьте: в то же самое время, когда с Пушкиным знакомится Гоголь), тогда поэт только женился и живет в царском Селе. Александра и молодожены Пушкины часто встречаются, «катаются вместе в коляске, совершают долгие пешие прогулки», поэт читает ей свои работы, дарит в подарок альбом с вписанным, якобы от ее имени, стихотворением:
В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный,
И правды пламень благородный,
И, как дитя, была добра;
Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло,
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.
(1832 А.С.Пушкин)
Гибель Пушкина Александра Осиповна восприняла как духовную трагедию. В тот момент она находится в Париже и в страшном удручении читает строчки из письма Вяземского:
«Умирая, Пушкин продиктовал записку, кому что он должен: вы там упомянуты…».
Думаю, читатель меня извинит за столь длительную тираду, возможно, на его взгляд касаемо нашей темы, о личности второстепенной, правда, раскрывающую подоплеку взаимоотношений описанной мной девицы Россет с Гоголем. Взаимоотношений, на мой взгляд, которые можно назвать чувством, продлившемся на долгие годы. Гоголь, весьма дороживший дружбой с этой прекрасной женщиной, написал о ней следующее:
«Это перл всех русских женщин, каких мне случалось знать, а мне многих случалось из них знать прекрасных по душе. Но вряд ли кто имеет в себе достаточные силы оценить ее. И сам я, как ни уважал ее всегда и как ни был дружен с ней, но только в одни страждущие минуты и ее, и мои узнал ее. Она являлась истинным утешителем, тогда как вряд ли чье-либо слово могло меня утешить, и, подобно двум близнецам – братьям, бывали сходны наши души между собою».
При встречах и в письмах они оба изливают друг другу душу, бывает сердятся и поругивают по-дружески.
А. О. Смирновой <9 января 1844. Франкфурт>
«…справедливо ли было с вашей стороны так скоро причислить мой поступок к донкишотским? В обыкновенных, житейских делах призывается по крайней мере в таких случаях доктор с тем, чтобы пощупать пульс и узнать, действительно здрава ли голова и цел ли ум, и уже не прежде решаются отвергнуть его дело или решение как безумное. А вы поступили ли таким образом со мной? Упрек ваш и замечания, что у меня есть мать и сестры и что мне о них следует думать, а не о том, чтобы помогать сторонним мне людям, мне показались также несправедливы, отчасти жестоки и горьки для моего сердца. Друг мой, Александра Осиповна, я не почитаю себя сыном, исполнившим все свои обязанности относительно родителей, но рассмотрите сами, не сделал ли я, что по возможности мне можно было сделать: мне следовала половина имения (и притом лучшая 100 душ кр <естьян> и земли). Я их отдал матери и сестрам в то время, когда я сам не имел верного пропитанья. Этот поступок называли в свое время также донкишотским многие добрые люди. Кроме того, мне удалось кое-что присылать им иногда в помощь из Петербурга, добытое собственными трудами; кроме того, я поместил сестер моих в институт и платил за них из своего кармана до времени, пока добрая Государыня не взяла их на свой счет. Это, конечно, небольшое дело. Лучшим делом с своей стороны я считаю то, что пожертвовал им своим временем и провел с ними год по выходе их из института, для того чтобы хотя сколько-нибудь воспитать их для того места и круга, среди которого будет обращаться их жизнь, чему, как известно, не учат в институтах. Словом, с теми средствами, которые я им доставил, можно было вести безбедную жизнь; но встретилось одно мешающее обстоятельство. Мать моя добрейшая женщина, с ней мы друзья и чем далее, тем более становимся друзьями, но хозяйка она довольно плохая. Сестры мои умные и добрые девушки, любимые всеми в околодке за радушие, простоту в обращении и готовность помогать всякому, но к хозяйству и экономическим оборотам по имению имеют естественное отвращение, и немудрено, это дело мужа, а не женщины. С ними случается то же самое, что со многими: они отказывают себе во всем иногда самом необходимом, и этим однако ж ничуть не помогают хозяйству, потому что хозяйствуют невпопад, воздерживают и ограничивают себя невпопад, издерживают и тратят в отношении к потребностям экономическим невпопад. Итак, рассудите сами, друг мой, справедливы ли были ваши упреки, и не жестоко ли было для моего сердца услышать их от вас? Еще скажу вам, что мне показалась слишком резкою уверенность ваша в авторитет слов своих, особливо, когда вы твердо называете намерение мое помочь бедным студентам безрассудным. Не бедным студентам хочу помочь я, но бедным талантам, не чужим, но родным и кровным. Я сам терпел и знаю некоторые те страдания, которых не знают другие и о которых даже и не догадываются, а потому и помочь не в состоянии….
Ваш Гоголь».
А. О. Смирновой Франкфурт. Февраля 15. 1845.
«Приехавши во Франкфурт, я застал ваше письмо, бесценный друг мой Александра Осиповна, и с ним вексель. Благодарю вас за то и за другое и вновь повторяю вам: мне не нужны деньги, не присылайте мне ничего сверх посланных. Вообще не беспокойтесь насчет средств моего существования; мне было гораздо труднее прежде доставать денег, чем теперь. Не думайте также, что, говоря иногда: «Будут деньги», я говорил это в твердой уверенности на Бога. Нет, в грешной душе моей недостает столько веры. Я говорил это вследствие соображений просто арифметических: складывая цифры мысленно, я говорил вам гласно сумму. Да и подумайте, точно, достаточное ли дело, чтобы меня допустили теперь погибнуть с голоду: я теперь нужен другим, а потому другие сохранят меня. Притом, слава Богу, во мне теперь всё почти умерло то, что почитается извинительным честолюбием и гордостью. И, как нищий, я могу теперь попросить у первого поперечного, в уверенности, что заплачу ему, если не самым делом, то искренними молитвами. Притом для путешествия моего в Иерусалим я могу собрать вдруг себе деньги, а это самое главное. Но меня мучит теперь другое: меня мучит плохое состояние моего здоровья, которое, признаюсь, никогда еще не было так плохо. Одна только поездка и путешествие как будто помогает. От переезда в Париж я почувствовал себя лучше; приехавши в Париж, почувствовал хуже. Переезд из Парижа во Франкфурт вновь помог мне. Неделю проживши во Франкфурте, я вновь почувствовал хуже. И всё во мне до такой степени расклеилось, что не знаю, чему и приписать. Я дрожу весь, чувствую холод беспрерывный и не могу ничем согреться. Не говорю уже о том, что исхудал весь, как щепка, чувствую истощение сил и опасаюсь очень, чтобы мне не умереть прежде путешествия в Обетованную землю. А потому прежде всего помолитесь, друг мой, о моем здоровьи, и помолитесь сильно. Крепко, как можно крепче. Богу всё возможно, и на Него только Одного моя надежда, а медицина никакой никогда еще не делала пользы мне, тем более теперь…. Не сердитесь на меня, друг мой добрейший и прекрасный Александра Осиповна, и помолитесь о моем выздоровлении.
Ваш Гоголь».
А. О. Смирнова Гоголю. Петербург, 20 марта 1845.
«Любезный друг, мне и за вас и по вас грустно: за вас, зная ваши страдания, по вас – для себя. Мне как-то чувствуется, что вам легче было бы, если бы мы встретились теперь, если бы опять вы жили, как в Ницце, меж нами, смотрели на Надежду Николаевну, забавлялись ее неожиданными выходками, читали мне вслух те книги, которых я забыть не могу, наконец позабылись бы в семейном быту, хотя чужом, но вам почти в родном. Мне как-то чувствуется, что вам, вместо всяких вод и лечений, приехать было ко мне в деревню, где я провожу лето одна с детьми. (Николай Михайлович едет лечиться за границу.) Вот как я это все в своей головушке устроила. В тот день, когда решится минута и час моего отъезда, я к вам напишу, тогда вы отправитесь из Франкфурта на Петербург в Москву, где останется два дня для свидания с Аксаковым. Экипаж вас будет ждать, и вас перевезут ко мне, в 70 верст от Москвы, в такую мирную глушь в такие бесконечные поля, где, кроме миллионов сенных скирд, песни жаворонка и деревенской церкви, вы ничего не увидите и не услышите. Отведен вам будет флигель, где вы одни будете царствовать. Старый Илья, который на флейте игрывал в оркестре забытого шута Познякова, будет вам служить. Марья Даниловна, которая слывет колдуньей на селе, постелю будет стлать. Луй, вам известный парень, будет вам подавать кофе со сливками, подобными громоклеевским и которые Василисса отпустит всегда с преважным и гордым видом. Обедня будет всякий день, потому что церковь села Константинова напротив, через паром только перейти, и священник препорядочный человек. Соседей нет, или почти нет. За обедом вы встретите детей, Марью Яковлевну Овербек, которую вы любите, и меня.
Душа моя прыгает и веселится, когда я воображу такую радость. Если бы вы и захотели повидаться кое с кем, мы выпишем кого вам угодно. Если бы вдруг вы захотели нас оставить, мы вас отошлем, куда угодно. Словом, мы так друг с другом поступим на деле, как делали до сих пор на словах. Вы меня бранили – я слушала; вздумала вас разбранить – вы меня вдвойне разбранили, потому что мы уже не можем ни сердиться, ни считаться. Кто кому обязан. Это Божие дело разузнать. До сих пор я всем у вас в долгу всячески. Знайте же вы, что и эти деньги были не мои. Они точно у меня лежали, но меня просили даже выдать их за мои, но теперь позволили сказать, что они были оставлены совсем на мое распоряжение! Вы никогда не узнаете, откуда они, а молитесь за эту особу горячо. Она чиста и прекрасна душою. Меня немного удивляет, что вы не хотите ничего принять у меня. Если бы вы были богаче меня, я никогда бы не остановилась у вас попросить. Вы представьте себе, что я ведь в самом деле очень богата. Мне Николай Михайлович дал все доходы в полное распоряжение. Прежде я, не зная всего хода дел, сорила деньгами, а теперь я всем дорожу и знаю, как и когда и в чем себе отказать. Если вы у меня возьмете, вы уже меня невольно заставите сделать доброе дело. Давать мне всегда было легко и приятно, но отказывать я себе ни в чем не умела; а теперь я хочу этому учиться, потому что распоряжаюсь без всякого контроля сотнею и более тысяч в год. Но впрочем хорошо и то, что у меня были чужие деньги в руках. Наши души выше обязательств светских. Знайте, что я это чувствую точно так, как чувствую, что мы не можем поссориться никогда. Вы не с лицевой стороны меня видали и полюбили. Хотя бы вы это не сказали мне, так я все-таки это бы почувствовала; оттого и уверена, что никогда и ничто не может отдалить друг от друга. И так подумайте о моем предложении.
Между тем Аркадий вам пишет свое мнение о Приснице (Лекарь. Основатель лечения водой. Прим. ав.), хотя очень затрудняется. Он не совсем против этого лечения, но находит, что есть преувеличенность в способах. Ханыков, напротив, убежден, что Присниц совершенно знающ в своем деле и что каждое его предписание основано на глубоком знании природы человеческой и соединяется с весьма верным взглядом. Ханыков, впрочем, и по словам Аркадия, склонен к энтузиазму. Дело в том, что ему гораздо лучше и что, при малейшем нездоровьи, он лечится водою. Я прилагаю вам записку от каждого из них, и вы выберите середину из этих двух мнений. Прощайте.
Ваша от души. Жду ответа».
Графиня Евдокия Петровна Ростопчина урожденная Сушкова – поэтесса, переводчица, драматург и прозаик не менее была привязана к Гоголю и до смерти была его горячей поклонницей.
Она о нем не забывает, когда ее просят почитать драму в стихах «Нелюдимка».
Это видно по письму к Погодину 23 мая 1849.
«Ваша, правда, Михаил Петрович, страшно за бедную „Нелюдимку“! <…> С радостью приеду в вашу келью прочитать ее вам, Шевыреву, Щепкину, Садовскому, Вельтману, если можно нашему Гоголю. <…> Назначьте мне день и час».
А оплакивала Гоголя эта женщина как дорого ей человека. Она проживала тогда в Москве и могла лично отдать дань великому писателю, и «получилось это в духе его повестей: «После кончины Гоголя начались споры о том, кто и как будет его хоронить. Пока граф Толстой и так называемые друзья-славянофилы выдвигали друг другу свои условия, студенты и профессора Московского университета унесли гроб с телом писателя в Татианинскую церковь при Московском университете. В первую ночь, когда все разошлись и в церкви возле гроба остались только несколько студентов, тишину нарушил стук колёс. В церковь вошла дама в чёрном под глубокой вуалью. Она, молча, прошла к гробу, наклонилась, откинув вуаль, и прильнула к лицу усопшего. Присутствовавшие при этой сцене студенты даже начали волноваться: не потеряла ли сознание таинственная посетительница – столь долго она не поднимала головы. Но вот она выпрямилась, опустила вуаль и застыла, облокотившись на край гроба. Так она простояла всю ночь, время от времени целуя покойника. Ранним утром дама, в последний раз простившись с писателем, направилась к выходу, и… вдруг пошатнулась. Студенты кинулись к ней, помогли выйти и увидели перед храмом карету с гербами Ростопчиных. Таинственной посетительницей была графиня Евдокия Ростопчина».
До самого дня её смерти каждый день на могилу Гоголя старенький лакей привозил цветы.
Официально не будучи на похоронах Гоголя Ростопчина отправила несколько писем в С-Петербург людям более близким к Гоголю.
Вот несколько:
П. А. Плетневу. 4 марта 1852.
«Да, Гоголя не стало. <…> Вот вам посылка, которую смело можете назвать замогильною, цветы с головы Гоголя в гробу, собранные мною для немногих и лучших его избранных, для вас <…>, потом для Одоевского <…>, Тютчева и, наконец, для Александры О. Смирновой. <…> Я писала Василию Андреевичу (Жуковскому) и послала ему такое же смиренное приношение из реликвий нашего покойника какую-то травку; ему и подобает! Не он ли первый друг и первый доброжелатель Гоголя?»
В. А. Жуковскому. 13 марта 1852.
«Вероятно, до вас уже достигли слухи о смерти, почти неожиданной, Гоголя… нашего представителя перед Европою в качестве народного поэта и великого моралиста, его, которого так убийственно хвалили и так несправедливо порицали у нас в последние годы; его, кому непрошеные друзья более вредили, и во всех отношениях, чем самые опасные враги; его, столь великого и гениального в своей сущности. <…> Вообразите: он сжег все свои бумаги, все рукописи, тетради черновые, переписанные, всё, всё до последнего клочка, и мы никогда не узнаем, что нам приготовлял его светлый, исполинский ум, освободившийся из-под гнета его долго опутывавших обстоятельств, недугов и влияний!.. Жаль, невыразимо жаль его, а пуще нас, и ваше сердце, нянчившее и взлелеявшее Гоголя столь нежным попечением и сочувствием, ваше теплое сердце, матерински открытое всякому молодому дарованью, оно поймет, оно разделит те чувства тяжкой скорби, которыми полно теперь все, что знало, ценило и любило бедного Гоголя! В прежние две зимы, им проведенные в Москве, я его редко видала, он удалялся от всех, хандрил, отмалчивался, а мне слишком больно было его таким встречать; когда же он опять стал бывать у меня, шутить, показывать, что ему приятно мое всепреданное уважение; помню, он сам говорил мне с удовольствием о приготовленных им новинках, а вы знаете, как это редко с ним случалось и как много доказывала в нем бодрости такая сообщительность!.. <…> С головы его выпросила я несколько веток и цветов и спешу уделить вам часть моего сбора вам, первому покровителю покойного, кому он обязан началом своей известности. <…> Еще посылаю вам рисунок, его портрет, набросанный для меня одним из наших новых поэтов <…> Этот эскиз один из удачнейших. <…> Место его в руках ваших!.. Еще посылаю вам несколько строк, посвященных мною памяти друга, собрата, учителя».
Выделяла Гоголя из всей толпы собиравшейся у нее на чтениях разношерстной публики и другая женщина – княгиня Зинаида Александровна Волконская, салоны которой хоть в Москве, хоть в Риме, где был ее особняк, собирали сановников и красавиц, писателей, поэтов и художников, как знаменитых так и молодежь, чтобы побеседовать и «обольстить друг друга словом либо музыкой… карт, застолья, танцев те вечера не предусматривали».
16 мая 1838 г. Гоголь писал матери из Рима: