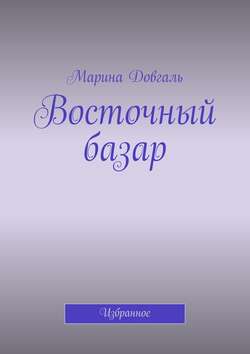Читать книгу Восточный базар. Избранное - Марина Григорьевна Довгаль, Марина Довгаль - Страница 9
Ваш Гоголь
Санкт-Петербург
ОглавлениеДекабрь 1828 год. После небольшой передышки от трудов ученических в родном и милом сердцу именьице Гоголь едет в Санкт-Петербург. Вынашиваемая долгие годы мечта с маячащими изогнутыми мостами и блистающими дворцами приблизилась настолько, что захватывало дух и усиливало биение сердца, заставляла торопиться, гнала, не ожидая окончания зимы. Неприступный чужой во всех отношениях город избалованный увеселениями и роскошью, предпочитающий французские романы не ждал Гоголя и даже не догадывался о существовании некого скромного сельского парубка, самонадеянность которого была на лицо: из далекой окраины отправлялся он в столицу российской империи и не посмотреть, а с твердым намерением покорить.
Двинулся Гоголь в дорогу с Данилевским и человеком из крепостных Якимом, данным матерью для заботы и уходу.
Из воспоминаний Данилевского:
«…Наконец издали показались бесчисленные огни, предвещавшие о приближении к столице. Мы совсем не могли придти в себя, страшно волновались и беспрестанно высовывались из экипажа, что Никоша схватил насморк, и отморозил нос, и ему пришлось сидеть по приезду три дня в доме».
Жильё: две маленькие комнатки, которые удалось снять, были совсем не «окнами на Неву» и в районе далеком от мостов и дворцов на верхнем этаже серого мрачного дома. Страшные морозы и суетность большущего города, где до прибывших никому не было дела не так огорчали Гоголя, как тающие данные матерью в дорогу деньги.
3-го января 1829 года, он пишет матери:
«Петербургъ мне показался вовсе не такимъ, какъ я думалъ. Я его воображалъ гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые распустили другiе о немъ, также лживы. За квартиру мы платимъ восемдесятъ рублей (ассигнацiями) въ месяцъ за одни стены, дрова и воду. Она состоитъ изъ двухъ небольшихъ комнатъ и права пользоваться на хозяйской кухне. Съестные припасы также не дешевы, выключая одной только дичи [которая, разумеется, лакомство не для нашего брата]; картофель продается десятками; десятокъ луковицъ репы стоитъ 30 коп. (асс.). Это все заставляетъ меня жить какъ въ пустыне. Я принужденъ отказаться отъ лучшаго своего удовольствiя видеть театръ. Если я пойду разъ, то уже буду ходить часто, а это для меня накладно, т. е. для моего неплотнаго кармана».
(Привожу это письмо, но думаю, оно переделано: совсем негоголевский стиль. Такие письма часто встречаются в так называемых «подлинных письмах», а в интернете и подавно. Кто автор этих писем, Кулиш ли или последователи неизвестно).
Данилевский поступает в корпус гвардейских прапорщиков, а Гоголь оставшись один, ищет работу: обходит учреждение за учреждением. Ему везде отказывают: молод и нужна протекция человека весомого.
30 апреля, 1829 год.
Что̀ за беда посидеть какую-нибудь неделю безъ обеда? Того ли еще будетъ на жизненномъ пути? Всего понаберешься. Знаю только, что если бы втрое, вчетверо, всотеро разъ было более нуждъ, и тогда оне бы не поколебали меня и не остановили меня на моей дороге. Вы не поверите, какъ много въ Петербурге издерживается денегъ. Не смотря на то, что я отказываюсь почти отъ всехъ удовольствiй, что уже не франчу платьемъ, какъ было дома, имею только пару чистаго платья для праздника или для выхода и халатъ для будня, и не смотря на это все порасчету менее 120 рублей (асс.) никогда мне не обходится въ месяцъ. Какъ въ этакомъ случае не приняться за умъ, за вымыселъ, какъ бы добыть этихъ проклятыхъ, подлыхъ денегъ, которыхъ хуже я ничего не знаю въ мiре? Вотъ я и решился… Наши в поле не робеютъ».
(Вот подлинное гоголевское письмо, обратите внимание на изложение, совершенно отличное от приведенного выше).
«Наши в поле не робеют» – как сказано! казацкая поговорка и в устах молодого барчука. Казак, он есть казак. Кровь казацкая: особенная, корней родных не даст забыть, и всегда будет бурлить в жилах, толкать на подвиг, на жертву ради дела праведного. Это выражение согласитесь, характеризует Гоголя как человека, решительного, упрямого, твердого в намерениях, учитывая еще выше написанное: «всотеро раз было более нужд и тогда бы они не поколебали меня». А его слова о решительности? На что он решился? Он решился заявить о себе, как о поэте. Он знает что он не Пушкин, но поэт: большая поэма, идиллия, набросанная еще в гимназии, есть за плечами. Ганц Кюхельгартен. Какой ни какой, а труд, и не хуже стихов чужих им в журналах читанных.
В поэме: влюбленный юноша бросает любимую ради славы, за которой отправляется за тридевять земель и посещает ряд стран, но пламенная любовь и образ любимой, несмотря на прикрасы заморские, возвращают его назад. Заметьте, поэма написана юношей никогда не бывавший в описываемых им странах. Гоголь чтобы не обмишуриться с поэмой выбирает из нее кусок об Италии и отправляет в издательство инкогнито, для того чтобы узнать, удостоятся ли стихи его печати. Конечно, он обходит все приличные издательства и даже возможно и там ищет работу. В издательстве его сталкивает судьба с земляком (харьковчанином) Орестом Сомовым35.
Сомов вместе с Дельвигом36издает альманахи «Северные цветы», «Подснежник»; на 1829 год, участвует в издании «Литературной газеты».
Как и задумал Гоголь стихотворение «Италия» было напечатано без подписи в журнале «Сын отечества», 1829 году. Вот несколько строк из него:
Италия – роскошная страна!
По ней душа и стонет и тоскует.
Она вся рай, вся радости полна,
И в ней любовь роскошная веснует:
Бежит, шумит задумчиво волна
И берега чудесные целует;
В ней небеса прекрасные блестят;
Лимон горит и веет аромат.
И всю страну объемлет вдохновенье,
На всемъ печать протекшего лежит;
И путник зреть великое творенье,
Сам пламенный, из снежных стран спешит,
Душа кипит, и весь он – умиленье,
В очах слеза невольная дрожит;
Он погружен в мечтательную думу,
Внимает дел давно минувших шуму.
Здесь низок мир холодной суеты,
Здесь гордый ум с природы глаз не сводит,
И радужной в сияньи красоты
И жарче и ясней по небу солнце ходит.
И чудный шум и чудные мечты
Здесь море вдруг спокойное наводит.
В нем облаков мелькает резвый ход,
Зеленый лес и синий неба свод….
Публикация стихотворения дарит уверенность, что полный труд нежинской гимназии ждет та же счастливая судьба. Поэтому Гоголь уверенно несет поэму в типографию Плюшара, где под псевдонимом В. Алов ее печатают отдельной книжкой. А вот и кусочек из поэмы:
Земля классических, прекрасных созиданий,
И славных дел и вольности земля, Афины!
К вам, в жару чудесных трепетаний,
Душой приковываюсь я!
Вот от треножников до самого Пирея
Кипит, волнуется торжественный народ:
Где речь Эсхинова, гремя и пламенея,
Все своенравно вслед влечет,
Как воды шумные прозрачного Иллиса.
Велик сей мраморный изящный Парфенон!
Колонн дорических он рядом обнесен;
Минерву Фидий в нем переселил резцом,
И блещет кисть Парразия, Зевксиса.
Под портиком мудрец
Ведет высокое о дольнем мире слово:
Кому за доблести бессмертие готово,
Кому позор, кому венец.
Фонтанов стройных шум, нестройных песней клики;
С восходом дня толпа в амфитеатр валит,
Персидский Кандис весь испещренный блестит,
И вьются легкие туники.
Стихи Софокловы порывисто звучат;
Венки лавровые торжественно летят;
С медоточивых уст любимца Эпикура
Архонты, воины, служители Амура
Спешат прекрасную науку изучить:
Как жизнью жить, как наслажденье пить.
Но вот Аспазия; не смеет и дохнуть
Смятенный юноша, при черных глаз сих встрече.
Как жарки те уста! Как пламенны те речи!
И, темные как ночь, те кудри как нибудь
Волнуясь, падают на грудь,
На беломраморные плечи.
Но что при звуке чаш, тимнанов дикий вой?
Плющем увенчаны вакхические девы,
Бегут нестройною, неистовой толпой
В священный лес; все скрылось… что̀ вы? Где вы?…
Но вы пропали, я один.
Опять тоска, опять досада;
Хотя бы Фавн пришел с долин,
Хотя б прекрасная Дриада
Мне показалась в мраке сада.
О как чудесно вы свой мир
Мечтою Греки населили!
Как вы его обворожили!
А наш – и беден он и сир,
И расквадрачен весь на мили….
Но ожидания не оправдываются: поэма принимается холодно и как гром среди ясного неба критик Полевой зло высмеивает молодого автора и его труд.
Это был удар. Удар сильный и неожиданный. По Кулишу (биограф) Гоголь скупает книжки, но не сжигает их в квартире, где живет с Прокоповичем, а СНИМАЕТ ГОСТИНИЦУ И СЖИГАЕТ ТАМ. Этими словами Кулиш хочет показать что Гоголь пытался скрыть от Прокоповича свои действия, а в итоге в своей биографической книге выставляет Прокоповича и Якима свидетелями этих действий. Других свидетельств данному происшествию нет. К тому же скупка книг и снятие гостиницы вызывает недоверие, скорее всего это вымысел биографа, если взять в толк безденежье Гоголя.
Гоголь хотя и расстроен первой неудачей: духом не падает, он идет поступать в актеры. Невзрачный юноша впечатления не производит, но его, уступая напору и дворянскому званию, «подвергают испытанию»: дают рукописный текст и предлагают прочитать с выражением. Естественно юноша испытание не проходит: для читающего текст впервые стояла дилемма: разгадывать ли почерк или держать дикцию? Это было сделано намеренно: молодой, малый ростом и с длинным носом человек, по формам своим не подходил ни к трагическому амплуа, ни к комедийному, ни даже быть на подхвате: в немых сценах.
Это был второй удар. Удар, пошатнувший Гоголя в уверенности, и выбил на некоторое время из колеи.
О своем разочаровании и сожалений юноши пишет матери в июне 1829 года:
«Я чувствую налегшую на меня справедливымъ наказанiемъ тяжкую десницу Всемогущаго. Но какъ ужасно это наказанiе! Безумный, я хотелъ было противитъся этимъ вечно неумолкаемымъ желанiямъ души, которыя одинъ Богъ вдвинулъ въ меня, претворилъ меня въ жажду, ненасытимую бездейственною разсеянностью света. Онъ указалъ мне путь въ землю чуждую, чтобы тамъ воспитать свои страсти въ тишине, въ уединенiи, въ шуме вечнаго труда и деятельности, чтобы я самъ по несколькимъ ступенямъ поднялся на высшую, откуда бы былъ въ состоянiи разсеевать благо и работать на пользу мiра. И я осмелился откинуть эти божественные помыслы и пресмыкаться въ столице здешней, где не представляется совершенно впереди ничего! Я решился, въ угодность вамъ больше, служить здесь во что̀ бы ни стало. Но Богу не было этого угодно. Везде совершенно я встречалъ одне неудачи и что̀ всего страннее – тамъ, где ихъ вовсе нельзя было ожидать. Не явно ли онъ наказывалъ меня этими всеми неудачами, въ намеренiи обратить на путь истинный? Что жъ? я и тутъ упорствовалъ; ожидалъ целые месяцы, не получу ли чего».
В этот момент Гоголь получает от матери деньги для уплаты взноса в Опекунский совет и решает бросить Петербург и рвануть за границу, о которой тоже нет, нет, да мечтал в Нежине. Возможно, там найдется то, чего так жаждала душа: найти свое высокое предназначение, где трудами своими он бы положил себя без сожаления на «плаху» ради отчизны, ради блага народа.
Вот что он пишет о том в своей исповеди в «Выбранных местах…»:
«Мне всегда казалось что в жизни моей, мне предстоит какое-то большое самопожертвование и что для службы моей отчизне я должен воспитаться, где то вдали от нее. Я не знал, ни как это будет, ни почему это надо, но видел самого себя так живо в какой-то чужой земле тоскующим по своей отчизне. Может быть, это было просто то непонятное поэтическое влечение, которое иногда тревожило Пушкина, ехать в чужие края единственно затем чтобы по выражению его:
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России.
Как бы то ни было, но это противу вольное мне самому влечение было так сильно, что не прошло и пяти месяцев по прибытии моем в Петербург, как я сел уже на корабль. (…) проект и цель моего путешествия были совсем неясны.
Я знал только то что еду не наслаждаться чужими краями. (…) Едва только очутился в море на чужом корабле среди чужих людей (корабль был английский) мне стало грустно, что прежде чем вступить на твердую землю я уже подумал о возврате. Три дня я только провел в чужих краях и, несмотря на новость чужих предметов начала меня завлекать, я поспешил на том же пароходе возвратиться».
В Петербурге его ждала протекция, благодаря матери, которая через третьи руки нашла человека знакомого, состоящего в Петербурге при деле и её гневное письмо. Гоголю ничего не остается как устроиться в департамент и писать матери письма с объяснениями своего поступка.
«…Выездъ за границу такъ труденъ, хлопотъ такъ много. Но лишь только я принялся, все, къ удивленiю моему, пошло какъ нельзя лучше; я даже легко получилъ пропускъ. Одна остановка была наконецъ за деньгами; но вдругъ получаю следуемыя въ Опекунскiй Советъ. Я сейчасъ отправился туда и узналъ, сколько они могутъ намъ дать просрочки на уплату процентовъ; узналъ, что просрочка длится на четыре месяца после сроку, съ платою по пяти рублей отъ тысячи въ каждый месяцъ штрафу. Стало быть до самаго ноября месяца будутъ ждать. (…) Поступокъ решительный, безразсудный; но что̀ же было мне делать?… Все деньги, следуемыя въ Опекунскiй Советъ, оставилъ я себе и теперь могу решительно сказать – больше отъ васъ не требую. Одни труды мои и собственно прилежанiе будутъ награждать меня. Что̀ же касается до того, какъ вознаградить эту сумму, какъ внесть ее сполна, ВЫ ИМЕЕТЕ ПОЛНОЕ ПРАВО ДАННОЮ И ПРИЛАГАЕМОЮ МНОЮ ПРИ СЕМЪ ДОВЕРЕННОСТЬЮ ПРОДАТЬ СЛЕДУЕМОЕ МНЕ ИМЕНИЕ, часть, или все, заложить его, подарить, и проч. Во всемъ оно зависитъ отъ васъ совершенно…».
Получая маленькое жалование и тягостную работу, Гоголь постоянно размышляет о своем существовании, ищет себя. Чем заняться? Как проявить себя? Чем обратить на себя внимание? Чем удивить культурную столицу? Ломая голову над этими вопросами, Гоголь пришел к мысли создать нечто новое: из ряда вон, то есть отличное от той литературы, которой была наводнена столица. Любимые с детства самобытные сказки и придания украинского эпоса, которыми заслушивался в детстве выбирает он для начала своей литературной карьеры. Писать с бухты-барахты он не желает, поэтому обращается к матери с просьбой добывать для него нужную ему информацию:
Февраля 2-го, 1830.
«Жалованья получаю сущую безделицу. Весь мой доходъ состоитъ въ томъ, что иногда напишу или переведу какую-нибудь статейку дома для господъ журналистовъ. И потому вы не сердитесь, моя великодушная маминька, если я васъ часто безпокою просьбою доставлять мне сведенiя о Малороссiи, или что̀ либо подобное. Это составляетъ мой хлебъ. Я и теперь попрошу васъ собрать несколько таковыхъ сведенiй, если где либо услышите какой забавный анекдотъ между мужиками въ нашемъ селе, или въ другомъ какомъ, или между помещиками. Сделайте милость, описуйте для меня также нравы, обычаи, поверья. Да расспросите про старину хоть у Анны Матвеевны или Агафiи Матвеевны: какiя платья были въ ихъ время у сотниковъ, ихъ женъ, у тысячниковъ, у нихъ самихъ? Какiя матерiи были известны въ ихъ время? И всё съ подробнейшею подробностiю. Какiе анекдоты и исторiи случались въ ихъ время, смешные, забавные, печальные, ужасные? Не пренебрегайте ничемъ: все имеетъ для меня цену. Еще осмеливаюсь побезпокоить васъ одною просьбою: ради Бога, если будете иметь случай, собирайте все попадающiяся вамъ древнiя монеты и редкости, какiя отыщутся въ нашихъ местахъ, стародавнiя, старопечатныя книги, другiя какiя-нибудь вещи-антики, а особливо стрелы, которыя въ множестве находимы были въ Псле. Я помню, ихъ целыми горстями доставали. Сделайте милость, пришлите ихъ. Нетъ ли въ нашихъ местахъ какихъ записокъ, веденнныхъ предками какой нибудь старинной фамилiи, – рукописей стародавнихъ про времена гетьманщины, и прочаго подобнаго?»
Мать не отказывает в просьбе и Гоголь просиживает до полночи за столом. Воображение рисует яркие самобытные картины, мозг работает, а рука только успевает записывать. Гоголь пишет «Вечера накануне Ивана Купала». Работает Гоголь основательно, скрупулезно, с полной отдачей сил: ему нельзя опростоволоситься, ему необходимо выиграть, удержаться, достичь высот, которые грезятся ему впереди. Он выискивает нужные слова, складывает их как жемчужины в изящную шкатулку, применяя бытовые и фольклорные особенности родной глубинки присланные матерью. Захватывающая, сдобренная мистикой повесть пишется легко и быстро. С написанным юноша отправляется в известное издательство к Сомову и Дельвигу. Те в восторге. Не было еще таких веселых захватывающих сюжетов, такой яркости и своеобразности языка проза русская не знала. Естественно, повесть печатают, и она принимается читателями на ура.
Что же сопутствовало успеху? Я думаю, новизна стиля, реалистичность, искренность, залихватская веселость, самобытность плюс к тому новый своеобразный язык, перемешанный украинскими забористыми выражениями. Успех, конечно же, окрыляет Гоголя и он с тем же усердием и так же старательно пишет ряд повестей. Дельвиг повидавший талантов и бездарей, угадывает в Гоголе особый дар и сводит его с Жуковским37.
Жуковский тепло встречает молодое дарование и принимает в нем участие: просит Плетнева содействовать Гоголю в устройстве.
С этим знакомством для Гоголя наступает светлая полоса. Он бросает нудную работу в департаменте. По рекомендации Плетнева его берут в Патриотический Институт преподавать историю, где жалование невелико, но Плетнев для поднятия финансовых возможностей юноши рекомендует Гоголя нескольким состоятельным благородным семействам на роль домашнего учителя. Каков был Гоголь учитель, мы узнаем из воспоминаний его ученика Михаила Лонгинова:
«Я и двое моихъ братьевъ думали что онъ будетъ преподавать намъ русскiй языкъ, но, къ удивленiю, Гоголь началъ толковать о предметахъ, касающихся естественной исторiи; во второе посещенiе онъ заговорилъ о системахъ горъ, рекъ и проч., а въ третьеповелъ речь о всеобщей исторiи.
– Когда же начнемъ мы, Николай Васильевичъ, уроки
русскаго языка? Спросили мы его. Гоголь насмешливо улыбнулся и сказалъ:
– На что вамъ это, господа? Въ русскомъ языке главное дело ставить ер и ять, а это вы и такъ знаете, какъ видно изъ вашихъ тетрадей. Просматривая ихъ, я найду иногда случай заметить вамъ кое что. Выучить писать гладко и увлекательно не можетъ никто. Эта способность дается природой, а не ученьемъ.
После этого классы шли обычной чередой, то есть, одинъ посвящался естественной исторiи, другой географiи, третiй всеобщей исторiи и т. д. Гоголь вводилъ въ свои чтенiя множество смешныхъ анекдотовъ и, сочувствуя веселости нашей, хохоталъ съ нами самъ отъ чистаго сердца. Даже такiя историческiя явленiя, какъ, напримеръ, войны Амазиса и происхожденiе гражданскихъ обществъ, онъ умелъ поворачивать смешною стороною.
Онъ не позволялъ намъ употреблять выраженiй, сделавшихся давно стереотипными, останавливалъ на половине и спрашивалъ усмехаясь:
– Кто это научилъ васъ такъ говорить? Это неправильно. Надобно сказать такъ то…».
Молодой Гоголь в педагогике, конечно, был не сведущ, но материал подробнейшим образом изучал и знал досконально; умел заинтересовать, повести вперед, заставить думать и размышлять, не воздействовал на детей авторитетом, а манил к знанию.
Не буду перечислять дальнейшую хронологию написанных им повестей, а замечу его отношение к своему труду.
За что бы он не брался, а брался за многое, всюду стремился к совершенству. Это отражается как в прозаических текстах, так и в научных статьях, где он детально рассматривает ту или иную тему, и прежде написать глубочайшим образом изучает выбранный им предмет. Когда ему представляется педагогика, он решает: вот то самое поприще где, пользуясь своими способностями, он выполнит предначертанный ему судьбой долг: служить ни какой-то части общества, а Отечеству в целом. Со временем он понимает, что ошибся: не педагогика, а литература – дело жизни. Трибуна, с которой он может призвать к совершенству, людей богатых и низкого звания, к совершенству взаимозависимости обоих классов, к совершенству взаимоотношений человека с природой и между собой. Он не призывал к революции, он не был против царя, он был за человека, за право каждого человека быть человеком, за совершенствование того высокого гуманистического права всеми имеющимися тогда сословиями. Об этом он пишет в ряде статей и очерков, об этом пишет в множественной переписке с друзьями и людьми незнакомыми. Пишет так подробно и скрупулезно, что письма его занимают несколько листов. Он жаждет общения. Он не может замыкаться в себе. Не может молчать, жизнь коротка и времени медлить нет. Он открыт для каждого всем сердцем, он не может быть угрюмым, двойственным, странным, хотя его воспринимают именно таковым, потому что он чужд тому обществу: то общество не созрело, не поднялось до тех высот, которые понимает Гоголь. Такого общества, о котором мечтал он, нет до сих пор. Люди так и прозябают в воровстве, обмане, убийствах, обогащениях, унижении себе же подобных.
Вот уж действительное горе от ума.
С первого взгляда в его произведениях рассказывается, что есть на самом деле, некоторая реальность, но рассказывается так, как не должно было бы быть. Не должно быть Плюшкиных, Маниловых, Чичиковых, таких городничих и других его героев. Он высмеивает реальность того времени, низменные характеры людей, в подтексте плача над той реальностью. Высказывая свои мысли в произведениях Гоголю требуется обратная связь. Ему мало высказаться, ему надо доподлинно знать, как его понял читатель. Он жаждет мнений, критики не только сведущих лиц, но и читателя простого: не обремененного знаниями. Ему необходимо знать, что вынес прочитавший из прочитанного и понял ли ту мысль, которую он с таким усердием вложил.
Гоголь был умен, изобретательно умен, тонко чувствителен и до всего восприимчив, любознателен неимоверно. Глазаст к окружающему его миру, я уже писала об этом, но повторюсь: необычайно. Он распознавал с первого взгляда изящность и пагубность, ощущал малейшее дуновение того или иного явления и это стремился открыть другим, мало открыть, удивить и порадоваться вместе данному удивлению и открытию.
Ко всем перечисленным мной добродетелям его, он был нежен душой и раним: чрезвычайно. Жаждя критики он болел от злорадства людей ограниченных рамками своего мировоззрения, далеко неидеального и даже педантического, мелочного и надменного.
Непонимание огорчало его. Что интересно и в этих случаях Гоголь ругал себя за неспособность растолковать такие ясные для него взгляды, поэтому оправдывался и пускался в разъяснения: пытался помочь читателю разобраться, уяснить им высказанную мысль.
35
Орест Сомов (1793—1833) литературный критик, писатель и журналист. Автор повестей и рассказов по мотивам украинского фольклора «Гайдамак» (1826), «Русалка» (1829) и других, (считается предшественником Гоголя, хотя этнография в его рассказах преобладает над художественностью).
36
Антон Дельвиг (1798—1831) – барон, поэт, издатель. Его дом, один из престижных литературных салонов, где как у себя дома друзья: Пушкин, Жуковский, Баратынский, Плетнев, Языков.
37
Василий Жуковский (1783—1852) поэт, основоположник романтизма в русской поэзии, переводчик, учитель русского языка императрицы и наставник цесаревича Александра Николаевича, тайный советник Николая 1, автор гимна Российской империи «Боже, Царя храни!».