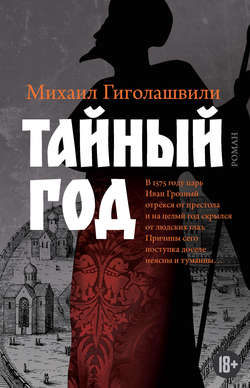Читать книгу Тайный год - Михаил Гиголашвили - Страница 5
Часть первая. Страдник пекла
Глава 3. Зелье алтайского мурзы
ОглавлениеКоторый уже день он лежал обеспамятован – Прошка даже пару раз прикладывался к царёву запястью: тёпел ли? Тайком заглядывала охрана, глазела на исхудавшего владыку в болезни. Портомои судачили возле корыт, чего ждать. Караульные слонялись без дела, а какие-то даже уходили рыбачить на речку, отделявшую слободу от крепости, уныло сидели на каменистом берегу, обсуждая, почему эта речка называется Серая, что приключилось с царём и не погонят ли их на войну с ногайцами, шалившими у границ.
А приключилось то, что зелье алтайского мурзы утихомирило тело, лишив гнёта веса, но оставило свободными дух и слух, кои витали в тех пределах, куда нет доступа чужому глазу и чёрному сглазу, где тепло и безопасно.
Движением губ просил у Прошки пить. Тот бежал заваривать иван-чай в старом походном сбитнике. Поил, поправлял постели, укладывал поудобнее подушки, иногда по приказу ослабшего пальца подавал из ларчика кусочек ханки, тут же отправляемый в рот и запиваемый свежим сбитнем.
После нового кусочка душа умиротворялась настолько, что переставал понимать, о чём можно просить Богородицу, когда ему и так всего достаточно – и блаженства по горло, и счастья через край. Чего же ещё человеку надобно? От добра добра не ищут – зла чтоб не найти. А даже и найти! Не искупавшись во зле, не облачиться в добро, не ощутить его душистых оков!
Время от времени спускал ноги в чёботы, плёлся, опираясь на Прошку, до помойного ушата, кое-как, по капле, справлял малую нужду, сетовал, что никак не может сходить по-большому, и тащился обратно под перину, где можно беззаботно блуждать детской мыслью в кущах Коломенского, где он увидел свет. Или обниматься с вечно любимой женой Анастасией – горячей, трепетной, терпкой, нежной, временами такой страстной, словно блудные беси в неё вселились… Только с ней бы жил и жил, других баб не любя…
Сквозь дрёму больше по нюху, чем по слуху, по сладкой обвони от всяких трав узнавал приход Елисея Бомелия – тот, шаркая, покашливая, приглушённо говорил кому-то, что ныне нужно слепить десять шариков мал мала меньше и давать их по нисходящей, довести до горошины, до изюмины, до крохи малой – тогда возврат царя из сонных объятий papaver somniferum’а[41] обратно к земной жизни будет не так болезнен; если же отнять сразу, то душа царя от внезапного горя может невзначай рухнуть туда, откуда возврата нет.
Слыша шёпоты проклятого мага, хрипел высохшим ртом, чтобы Бомелий убирался к своим колбам и ядам и не базлал тут своим писклявым языком – по нему, колдуну, и так костёр плачет:
– Иди отсюда, гадина, ворожец, козоёб! Прошка, гони прочь эту елдыгу костлявую! Да и котяру заодно вышиби! Вон Мурлыжка на столе по ендове языком елозит, шебуршун!
– Какое там – котяра! Сдох лет десять назад Мурлыжка, кошачьей мяты объевшись, в саду ещё хоронили, – отвечал слуга, подтыкая перину и поправляя вышитое покрывало – подарок персидского шаха, но для вида лихо притоптывая ногой. – Брысь, брысь отсель, оторва оглоедова! Пшёл! Счас я веником! Пшшт!
Бормотал:
– Пусть убирается, колоброд, спать не даёт! А ну матушка войдёт, она зело кошек не терпит, расчихается, больна станет…
Прошка, слыша про кошку и матушку, пригорюнясь, прикрывал за собой дверь и шипел на слуг в предкелье, чтоб не шумели – государь сильно не в себе, почивать изволит. А он оставался наедине с матушкой, с её чихами и охами, играл с кошачьим хвостом и не понимал, отчего матушка плачет – ведь всё так ладно и спокойно! Ему так уютно тут, в постельке возле её ложа! Смотреть на зелёную слюду в окне и ждать, когда придут девки спрашивать, какую кашу желает царёнок – манницу или овсяницу?.. А чего государыня изволит?.. Может, пирога с тельным?.. Или горячих калачей?.. Или оладий с мёдом?..
Иногда лежал, вытянувшись донельзя, сложив по-покойницки ладони на груди и представляя себе, каково это будет, когда откроется последняя смертная дорога – мерзкая, склизкая, бурая, в золе и кровавых пятнах, с гниющими обочь трупами зверей. По ней телепается без возницы колымага о двух клячах, а он идёт за ней, хоть и не хочет идти, словно привязан без вервия. Не сбежать, не упрятаться. Крепкая сила ведёт в последний путь…
…А вот он уже на псарне, где мальчишкой часто прятался по невзгодным дням от злыдней-бояр. На псарне – крепкая, с ног сшибающая обвонь; чадят факелы, в тёплых закутах лежат щенные суки; в конурах ярятся кобели; гавкает молодняк из общего загона; где-то гремят вёдрами кормщики, а два псаря на дубовой колоде рубят чёрным щенкам-мордашам уши и хвосты.
Вначале псари не замечали, кто это к ним таскается, потом стали косо перешёптываться при его приходе (бояре запретили приваживать сироту царевича), затем слепилась драка с одним наглым псаришкой – тот попытался сорвать с царевича золотой крестик, получил за это свинчаткой по пальцам, поднял дикий ор, набежали взрослые, погнались, камни кидали в спину, но он, Иван, успел скрыться и больше на псарню не ходил, месть затаив. А когда начали с Малютой, Клопом, покойным Тишатой и другими буслаями озоровать по-серьёзному, то и на псарню наведались: псарей избили цепями до неузнаваемости, а псаришке, кто камни кидал, на одной руке все пальцы по одному поотрубали – пусть все знают, каково будет тем, кто будущему царю боль причинять вздумает! Сиди теперь в куте да пестуй муде беспалой лапой, лопух безродный!
А когда подрос – к дворовым девкам повадился. Те его привечали за высокий рост, чёрные глаза и толстый мехирь и прикармливали, когда он, вечно голодный, к ним являлся. И смеялись, и щекотали, и давали сиськи тугие трогать, и иное меж лядвей показывали, шутя прибаутками: «Вот мои вкусняшки – ляжки да голяшки! Поищи-ка, дружка, чего найдёшь – полушка!» А он – что? Он и рад: заберётся к ним и давай какую-нибудь молодку в углах тискать и лапать и елдан куда ни попадя ховать – до бурного испускания похоти.
Да, девки-то уж точно знали, что он царёв сын. А одна, загузаха задастая, Алёнка, даже понести от него вознамерилась, для чего уводила в дальний чулан то шитьё принести, то готовое унести, там быстро и молча задирала испод, ложилась навзничь на мешки с тряпьём и его прямо-таки силой на себя натягивала, чтобы он в неё сверху поглубже вонзался и семя понадёжнее и подалее вливал… Думала, дура, таким образом великой княгиней стать и царство обрести! Ну и обрела. Только не земное, а небесное. А что было делать? «Я на сносях, от тебя дитёночек будет». Как сказала – так и подписала себе приговор. Исполнить взялся дружок Гришаня Скуратов, которого потом Малютой прозвали, и вовсе не за малый рост, а за то, что в казематах только и слышал от пытомых: «Молю тя… Молю тя…»
Этот Малюта – Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, крестовый брат, был родом из Калуги. В юности приходил с обозами на Москву, где случайно, после драки москвичей с пришлыми калужанами, сдружился с молодым царевичем, а позже вместе с братьями Третьяком и Нежданом был вписан задним числом в Дворовую тетрадь. О том, что у царя с Малютой давнее знакомство, мало кто знал (а кто знал – того уже нет в живых, царство им небесное, а кому и бесное!).
Ох и крутили они тогда дела, грань между злом и добром на прочность проверяя – накажет Бог или нет? Можно или нельзя? Грех сие или так, мелочь, на исповеди снять можно? Пока вот Бог милует: он тут, в постелях, живой лежит, Клоп (ныне князь Мошнин) при Разбойной избе в сыскных начальных дьяках состоит, все увёртки и уловки разбойничьи с детства назубок зная. Малюта, правда, геройски пал при взятии замка Виттенштейн, но был отомщён: жителей замка перебили, коменданта Ханса Боя с другими шведами и немцами привязали к кольям и зажарили до смерти. А вдова Малюты Марья вместе с единым пособием в четыреста рублей удостоилась получить пожизненную обеспеку, чего ещё никогда на Руси не было. Но зачем деньги, если нет рядом Малюты?
Чего только раньше с Малютой не творили! Учились ножи бросать в живых людей – привязывали к дереву и кидали так, что только кровавые ошмётки в разные стороны летели. Ещё спорили – попаду в глаз? в лоб? в сердце? Бывало, что и в мёртвого ещё продолжали кидать, пока от трупца одно алое сочиво не оставалось. Или загоняли людей в баню, под неё клали порохи и взрывали – и покойники летали по небу как птицы. Или запирали пленных татар в овечьих загонах, а сами на конях охоту на них, как на кабанов, устраивали, стрелами разя и копьями протыкая. Или учились стрелять из лука по привязанным к столбам жертвам – пускали стрелы до тех пор, пока мёртвое тело не начинало напоминать игольчатого ежа.
А ещё было: как-то с Малютой и Клопом не поленились выкрасть четырёх косолапых в медвежатном селе Логовищи, где звери недвижно сидели в тесных, не повернуться, клетях (чтоб сподручнее было у них из печени по берёзовым стокам лекарственную желчь выкачивать), отчего зело злы и бодливы были. Перетащили клетки на телеги, рогожей накрыли, всякой дрянью закидали и в Москву отвезли, а там в базарный день в толпе на торговой площади клетки тайком открыли и отбежали. Медведи кинулись на людей. Поднялся ор и грай, все бросились врассыпную, а они кружились в толпе и кастетами на ходу, в толкотне, людей незаметными ударами ухайдакивали насмерть.
…Иногда полошился, вскакивал в постелях, озирался:
– Эй, кто там! Прошка, ерпыль поганый! Где люди? Куда все? Рынды? Где Федька Шишмарь?
– В Польшу услан, соглядатайствовать… Скоро прибудет, невидаль…
– А Родя? Биркин?
– По княжествам ездит, вынюхивает… Явится на неделе…
– Нагие где? Афанасий?
– Все на местах, свою работу справляют, как тобой велено…
– Ну, хорошо, – успокаивался, опрокидываясь обратно. – Подай водицы кислой со льдом!
…«А тут что такое? Какое такое это?» – стал с тревогой вглядываться в угол, где копошилось что-то тёмное и гадкое, гладкое, блестящее… И псиной мокрой как будто понесло… Да это та чёрная собака – первая из тварей, им убитых, – что была сброшена с башни. Вот она. Жива? Зачем явилась, убогая?
Слабо позвал её без имени, мыслью: «Сюда! Поди сюда!» – и собака боязливым ползком подобралась к постелям. Подала зубами малый колоколец.
Взял его. Знатная работа! Цвета золотого, а по ребру что-то витиеватое набито. Дёрнул, чтобы звук услышать, – вдруг от звона из-под стен начала выползать мелкая нечисть, змеи, жабы. Вот пол кишмя кишит: шевелятся, шипят, слюна аж до постелей долетает. И на стене стала проглядывать чья-то бездонная харя – хмурится, жмурится, мерными вздыбами идёт. А чёрная собака передними лапами на постель влезла, пасть раскрыла, а оттуда неземным смрадом понесло.
…И не пасть это собачья вовсе, а сумеречный храм! Тёмный амвон. Свечи смоляные трещат. По углам вязки летучих мышей копошатся. На иконах – звериные морды в колпаках. На амвоне – дымная чаша, из неё мохнатые скорпионы, ногастые пауки, рыбозмеи, жабокрысы, черви аршинные выползают, тянут голые шеи. Перед амвоном жирный поп в красной ризе кадит чем-то дерьмовым, а у самого по плечам зеленоватые блестящие слизни ползают, скользкие дорожки оставляя. Лицо у попа чёрно, глаза алы, изо рта дымок валит, а пальцы будто обуглены. А вот и паства по углам шебуршит. Какие-то уроды с себя носы, уши и губы обрывают и в ржавое ведро кидают. И полное ведро это идёт само собой по воздуху в руки к попу, а он туда свою морду суёт и начинает чавкать так смачно, что слизни с него опадают, на пол с гулким чмоканьем шлёпаются…
…Взмахнул колокольцем – от истошного звяканья храм тотчас исчез, а нечисть с пола стала спешно уползать под стены.
В испуге так и сидел с согнутой рукой, осматривая свои пальцы. Что это было? Или не было?
– Святый ангеле, прежде страшного твоего пришествия умоли Господа о грешном рабе твоём! Возвести конец мой, да покаюся дел своих злых! Да отрину от себе бремя греховное! – начал он спешно бормотать.
И постепенно дух его, успокоен молитвой, отошёл от бренных мук в иные пределы, где светло и морозно, как небо в тот день, когда он был венчан на царство и весь мир поклонился ему…
О, то был лучший день жизни: январский, морозный, колюче-бодрый, ясный. Колокола разрывались от радостного переливчатого перезвона. Над куполами метались стаи ошалелых птиц. Гомонили толпы в новых одеждах, с детьми и слугами. А в Успенском соборе на семнадцатилетнего Ивана возлагались бармы и шапка Мономаха, утверждая его власть над державой предков. И он, сидя на троне, с захваченным духом думал о том, что его власть – от Бога, и всё, что он будет отныне делать, будет делать не он, а через него – Всевышний: захочет Он карать или миловать, отнимать или одарять – его руками будет сотворяться. Он, Иван, отныне – не человек, а длань Господня, Божий выполняла! Так думал тогда в просветлении, хоть и мучаясь от жара, дыма свечей, тьмочисленной толпы, ёрзая задом по неудобному трону и не в силах пошевелить ногами в новых жмучих сапожках, кои то ли по глупости, то ли по умыслу напялил на него постельничий (ибо не все – ой, не все! – были рады видеть его на престоле!).
Временами стал приходить в себя – Прошка делал, как было велено Бомелием: уменьшал катышки ханки, поил урдой[42], усаживал повыше, подкладывал под исхудавшую спину – позвонки наперечёт – подушки и мутаки, растирал ступни и кисти.
В одну из прорех в сонном блаженстве наяву увидел жену Анюшу. Тоже исхудалая и несчастная, она не решалась подойти к постелям, от двери стала плаксиво гундосить, что он их совсем забросил, что много чего надо по семье, что доченьке Евдоксии совсем худо: и так бездвижна, теперь умолкла вовсе, губами шевелит – а слова изо рта не вылазят, один хрип да шип.
Морщился, вздыхал, прятал глаза, зная, что немощь дочери – его вина: как-то, раздражённый её плачем, в гневном порыве гаркнул: «Чтоб тебя черти взяли!» – дочь в испуге заикнулась раз – и стихла, да так с тех пор и лежит недвижным пластом и под себя ходит. А ныне вот онемела…
Слабо взмолился:
– Не реви. Не рви душу, Анюша. Болен – видишь? Как встану – отправлюсь по монастырям. Отвезу дары, отслужу молебны о здравии. Выпишу из Англии новых докторов. Что ещё в моих слабых силах? На всё воля Божия. Иди сей час, оставь меня, я не в себе, телом болен и душою чахл. Сам мучаюсь, как в треисподней[43]!
Но жена не уходила, начала о сыне, царевиче Иване, гнусавить, утирая слёзы, – скверно, мол, у него: пьёт что ни попадя, буйствует на своей половине, жену новую начал поколачивать почём зря, а всё из-за того, что от безмерного пития маловолен по мужской части стал, о чём недавно Бомелию жалился и о чём Бомелий, дав ему какого-то пойла, ей тотчас же и сообщил.
Гневно завозился в постелях:
– Да как он, щенок, смеет на жену руку поднимать?! Свои слабины на других срывать! Маловолен! Да я ему! Посох подайте! – Но Прошка с Ониськой уложили его обратно, а жена поспешила сгинуть, чтобы не попасть под скорую руку, крикнув от дверей, что передаст Ивану гнев батюшки.
– Да, передай! И скажи, как от болезни оправлюсь, так с ним разбираться буду самолично! Вот сопливец, смотри на него! Только и может, что меж чужих трупов ходить и бошки им палицей проламывать, сукоедина! Дождётся у меня!
О Господи, за что Ты меня таким божедурьем наградил? Нет, скорее от них всех в затвор, в скит бежать, сбросить с себя этот мир, собрать в одиночестве свою душу в кулак! Но на кого страну оставлять? На вот этого старшего сынца Ивана, слабого пьянца? Если на бабу сил нет – то как державу поять будет? На младшего Феодора? Тоже не ахти – постник и молчальник, бессловесен как собака, душой слабоват и рыхловат, головой малоумен – как ему такой державой, как беспокойная Русь, владеть, где даже самая грозная длань бессильна? Нет, Феодор-блаженник более для кельи, чем для власти, рождён…
Ах, если бы Дмитрия, первенца, проклятая доилица не утопила при погрузке на корабль, из рук упустив! Если бы Василий не помер во младенчестве от корчей – то ли иголку проглотил, то ли скипидару напился, так и не узнали, отчего преставился. Вот они могли бы править. А эти?..
Дочерь на престол возводить? Невиданное дело будет! Да и кого? Две после рождения Богу души вернули. Третья жива, ни рыба ни мясо. Вот как будто взрослая девка, а всё в куклы играется, умом малость граблена, от людей подальше в Коломенском содержится. А младшая, Евдоксия, лежмя лежит. Вот оно, где грехи наши боком вылезают! Эдакое ли потомство должно быть у Рюриковичей? У князя Владимира пятнадцать детей было, у Всеволода Большое Гнездо – двенадцать, у Мономаха – четырнадцать, а у меня что?…
О Господи! В какой зазор влезть? Куда скрыться? Почему язык мой так невыдержан, что и дочь, мала и безгрешна, через это страдать и хизнуть должна? Мыслимо ли: собственное чадо в лапы нечистой силе посылать – «чтоб тебя черти взяли»?! Вот и взяли Евдоксию, и полонили, и обездвижили, назад не отдают. Или такой выкуп запросят, что невмочь будет платить!
И чего он только ни делал, чтобы умилостивить Создателя! Возле дочери и Евангелие читал, и пел тихим голосом, и ручки-ножки растирал, и куклы-обереги дарил, и на пальцы тряпичных Петрушек и Емель насаживал, киятры показывая и ища хотя бы улыбки от дочери – и ничего не находя, всё тщетно! Глаза ребёнка смотрели сурово, а тельце было недвижно.
«Сатана, царь мрака! К тебе взываю – меня возьми, а дочь отдай! Зачем тебе она? Что тебе пользы от её невинной души? Отпусти её!»
Не успел про то подумать, как вдруг испустил газы – да с таким оглушительным треском, что Прошка присел от неожиданности, бормотнув:
– Во! Выздоравливает, слава те, Господи!
Стал смущённо оглядываться, как бы спросонья. Мысли, лишённые полёта ханки, были пока вялы, квёлы, снулы, шевелились с натугой, то замирая, как в столбняке, то вылезая из мозговых нор и расселин, куцые и сходные с осенними мухами в морозном бору.
Попросил манницу с сахарком и пряничка медового.
Прошка, принеся еду, сообщил, что явился слесарь-немчин Шлосер, чего-то про осетрюгу лопочет:
– То ли зверюге худо, то ли ему – не понять его загогулин…
– Пусть ждёт, я ем, – приказал и начал медленно черпать ложкой сладкую кашную жижу, вяло думая, что надо Шлосеру и что могло случиться с осетром, жившим в садке в зверинце.
Да, если бы не Ортвин Шлосер, не было бы в Александровке ни зверинца-тиргартена, ни книгопечатни, ни водовода, по коему вода в мыльни поступает, ни школы пения, где немцу было вменено инструменты настраивать, смазывать и протирать, ни пекарни, куда он хитрую печь наладил, где уйму калачей, саек и баранок зараз выпекать можно… А кто повсюду тайных глазков понаделал, чтобы можно было подслушивать и подсматривать за слугами и охраной? А кто бабушки Софьюшки книжную казну, либерею, спрятал, да так ретиво, что ныне не всегда и ходов к ней найти? А кому подходы к казне на Соловках минировать доверено? А кто кастет с алмазами сделал, так хитро камни в железо усадив, что от удара по морде одни кровавые дребезги летят и любого одним махом до смерти растворожить можно? (С детства любил такие игрушки: у него когда-то была нагайка из китайского шёлка со вшитыми рубинами, золочёный дручок, хитрый выкидной нож.)
Из балтийских немцев, бывший наёмник-канонир у ливонцев, Шлосер много лет назад был пленён у Озерищ и всей своей простой душой отдался царю, служит верой-правдой и в самых трудных делах помощник и советчик: ведь своего в Московии мало, всё у фрягов-брадобритцев закупать или выкрадывать приходится, тут Шлосер и помогает разобраться, какой рычаг куда вставить, какая трубка зачем нужна да где каких наболтов не хватает.
Если бы не Шлосер – никогда бы Иванке Фёдорову свою печатню не собрать. Печатный станок царёвы шпионы тайно из типографии германского города Майнц выкрали, разобрали и по малым частюлям, под разным товаром, на Москву отправили, а вот собрать на месте никто не смог – воеводы и бояре сидели, смотрели как бараны на новые ворота, чесали в затылках, вздыхали, судили-рядили, пока Шлосер не свинтил воедино печатное чудо, «друк-машине», и не объяснил, как оно трудится. Помог отлить славянские литеры, кои уже потом Иванка Фёдоров с Петром Мстиславцем успешно в строки набирали, покуда подлые писчие дьяки, осерчав, что их переписное дело через печатню гибнет, не сожгли всю мастерскую со станком и готовыми книгами, а сам Фёдоров туда сбёг, куда и остальные, – в Литву, будь она неладна! Теперь там книги шлёпает и его, царя, прилюдно проклинает, хотя царь при чём? Разве он станок пожёг? Он, наоборот, тех монахов иродомордых за самоуправство перевешал – что ещё в его силах было?
А кто, как не Шлосер, соорудил из дуба и железа гигантский садок для огромного осетра пудов в десять, что запутался в сетях возле Астрахани и был отправлен в особом возке живьём на Москву, куда издавна свозили со всех земель разных диковинных чудищ вроде собаки с копытами, бородатой бабы в жёсткой шерсти, четырёхногого мальчика с обезьяньим хвостом, телка-двуголовца и других уродов. Раз даже сдвоенных в бедре младенцев приволокли, да Малюта, недолго думая, рассёк их саблей надвое, отчего те, прожив пару дней, померли.
Из Москвы в Александровку осётр был перевезён на замысловатом поло́ке[44] с водой (сделан тем же Шлосером с таким замахом, чтобы позже в нём можно было чудище по городам возить и на торжках простому люду за деньги показывать). В тиргартене осётр был пущен в огромный дубовый садок, где и пребывал в неге и довольстве.
Зверь-рыбу осетра величали Дремлюгой и кормили плотвой, червями, улитками. От жранья и бездвижья он разжирел так, что не мог уже плавать: лежал на брюхе и лениво шевелил узорными плавниками или надувал игольчатую щетину на хребте. А жабры имел толстые, выпуклые, округлые, словно налитые жиром щёки бояр Кормового приказа. Под садок был хитро подведён трубный подогрев, дабы осётр не помёрз на зимних холодах.
Иногда приходил к Дремлюге, тыкал в него посохом, осётр лениво делал хвостом полукруги, кланяясь на свой манер. «На мою свадьбу прямо в этом садке тебя и сварим!» – забавлялся ласково, щекоча посохом плавники и дотягиваясь до жабр, а люди вокруг не знали, шутить ли царь изволил или задумал ещё раз жениться (в шестой, кажись, али в седьмой раз, народ со счёта сбился, хотя, конечно, на всё его царская – а значит, и Божья – воля!).
Лет пять назад, в разгар опришни, когда в Александровке жило целое войско, с Волги доставили столетнего сома-альбиноса. Шлосер соорудил для него другой садок, а Малюта решил прикармливать отрубленными пальцами, носами и ушами, за что сом получил кличку Обжора. Ещё Малюта заставлял Шлосера соорудить над садком крюк, чтоб на него можно было вешать пытаемых и ноги их в пасть вечно голодному Обжоре опускать – пусть чудище их объедает своими острыми и частыми зубками! Но царица упросила этого не делать, и сом продолжал жрать что попало, от рыб и мышей до пауков и тараканов, и мелкой кошачьей падалью не брезгуя, кою украдкой подкидывали в садок подвыпившие стрельцы.
– Прошка! Зови немчина!
Вот появился Ортвин Шлосер в ботфортах, одет в особое платье со множеством прорезей, куда инструмент удобно прятать. Лица круглого, белого, безбородого, волосы коротко стрижены. Без долгих предисловий начал:
– Мой цар, над-до про осет-трин каварить… У осет-трин понос-са был-ла, какой-то гнил-лой мыш-ша кушаль, целы день калит-тся…
– Что, понос? Утробу смыло? Ну и что? Пусть себе серит, жалко тебе?
Шлосер всколыхнулся:
– Как, мой цар? Она будет умир-рать… Она чисты фиш, она заубер вассер[45] нужно… Я пять разоф менял, опять гриазны… Вассер шмучиг, гриазны…
– А от меня чего надобно? – не понял.
– Дфа мушик надо вас-сер носит-ть… И нофы садок надо, в стары садок дырк фелики есть, вассер тих-тих каплется, огню тушит, осет-трин замёрзла… Надо нов-ви садка делать. Над-да шелеза, кламмер[46], уголоки, дуб для унтерзаца[47], разный вешшь. Осетра – риба зер чист и умны, когд-да свой им-мени слыш-шит – жабра шурш-шит и глаз шурит. Ему зер заубер вассер над-до… А где вассер брать? Дай два мушика, вассер таскать!.. Осетра пять разоф понос-са делаль – я пять разоф вассер мениал…
Пошарил под подушками, кинул ему мелкий золотой:
– На тебе за труды. Посчитай, сколько дерева и чего ещё надо, отпишу в Приказ… И мужиков дам из слободы…
Немец попытался поймать царёву руку для поцелуя, но тот схватил его за шершавые грубые пальцы:
– Это твоя длань достойна похвалы, ты мастер на все руки…
– О майн готт, что ты говор-риш, мой фелики цар-р! Ты полмир хоз-зяин, а я свой малы мышелофка сижусь…
Затем Шлосер сообщил, что пёс Морозко печален стал, прутья в клетке грызёт и целый день злое «мастурбирен» делает, чуть псиный срам сам себе не откусил.
– И ты бы Дуньку Кулакову гонял, посади тебя в клеть… Сидел бы в куте и мочалил муде! Да ты, поди, это хорошо умеешь, а? – засмеялся, вспомнив, что Шлосер – бобыль и байбак, ни с кем не якшается, рядом с ним баб замечено не было. Подумав, добавил: – Ему надо суку, самчиху… Но какую? Простые пёсицы ему не подойдут – порвёт их, зело велик.
Дело было в том, что рядом с сомом стояла клетка, где сидел подарок маньчжурского мандарина – собаколев-мастиф, помесь пустынных львов и горных псов, которые ещё с Буддой по земле ходили, наводя страх на людей и зверей. Страшного красношёрстого Морозко ростом с телёнка и гривой, как у взрослого льва, боялись все, кроме Шлосера, который кормил его, чесал густейшую рыжую шерсть, от чего Морозко урчал, заставляя тигра Раджу отзываться с другого конца тиргартена утробными рыками. Покойный Малюта не раз предлагал стравить для потехи тигра и пса, но жаль было – ведь погубят друг друга клыками и когтями!
Тигр Раджа, забранный тигрёнком из ханского дворца в Казани, жил в Александровке в кованой клетке, где ему при опришне время от времени подбрасывали жертву, с коей он какое-то время играл в смертные игры, а потом пожирал живьём – потроха уже тянулись в тигриную пасть, а человек, всё ещё жив, молил о пощаде, обезумев от боли и не понимая, что это конец.
Ну да теперь всё в прошлом: опришня закрыта и запечатана, земщине отнятое возвратом идёт, а верховоды чёрного братства, на царёвы указы плевавшие и по своей воле волости грабившие, на колах да в петлях жизни свои оставили, упокой Господи (или сатана) их души! Да и зарок дал он Богу, что больше никого пальцем не тронет, на смерть не пошлёт, греха на душу не возьмёт, что никогда не будет стоять над Александровкой – да что там, над всей Московией! – трупная обвонь и людской стон.
– Кде так-кой сам-мка для Морозк-ко есть? Кде взятем так-кой?
– Жаль, ты мне раньше не сказал – у меня алтайский хан гостит, он для меня звёзды с неба достанет, не то что собакольвицу… Ему поручу.
Помявшись, Шлосер сказал дальше, что надо из Фрягии части для башенных часов выписать – стрелки на часах Распятской церкви заржавели, и два главных маховика истёрлись, и на шестернях проплешины появились, а замены нету.
– Сам не можешь сделать?
– Нет, друг-гой металль надо, у нас нет-ту…
Ну да, старая песня: чего не хватишься – ничего-то у нас нету! Всё в Неметчине закупать! И почему это так? Ведь и мастеров выписывали, и дома им давали, и прокорма на них не жалели, и всего вдоволь они получали – ан нет, всё равно бегут, неблагодарные, обратно – кто в Польшу, кто в Швецию, кто в Ливонию, кто в Голландию. А фряги ничего – ни чертежей, ни частей – в Московию не дают, чтобы Московия у них только всё готовое втридорога покупала. Закупай – или воруй, как с печатным станком!
Помнится, давно, когда с Сильвестром и Алёшкой Адашевым в связке был, поручил саксонцу Шлитте привезти ремесленников, художников, лекарей, аптекарей, механиков, пушкарей, печатников, языкознатцев, зодчих и разных других розмыслов, чтобы всё это на Руси на ноги поставить. А чем дело кончилось? После протестов проклятой Ливонии сенат ганзейского Любека арестовал Шлитте и его людей и не пустил их в Московию, да ещё и злой указ издал: никого из мастеров в Московию не посылать, чтобы её обуздать, в невежестве держать и только готовые товары туда продавать, да и те только, кои нам самим уже не нужны, перестарели: «Нам – новое, а в Московию – старое! Мы без их шкурок и мёда проживём, а они без нас – никак!»
Вспомнив тот конфуз, напрямую с раздражением, словно это Шлосер клепал запреты, спросил у слесаря, почему его сородичи-фряги заговоры плетут и не хотят помогать Московии на ноги встать? Разве это им не выгодно? Или как?
Честный немец, сделав печальные глаза, объяснил, что заговоры происходят оттого, что Московия не хочет латинскую веру принять и папе поклониться, поэтому фрягам выгодно всё, что помогает погрузить Московию во тьму и хаос, лишить её корней знаний и семян наук, обречь на кабальное прозябание. Другое – это то, что не доверяют во Фрягии славянам, а особенно московитам, говоря: «Дай московским тартарам цеха по металлу, научи строить пакгаузы и верфи, обучи литью и всякому ремеслу – потом хлопот не оберёшься! Московиты наделают себе оружия, пушек, мушкетов, нахлынут ордой и твоими же науками тебя и прихлопнут, благо народу в Московии много, есть кого на смертные битвы посылать!»
Озлился, мрачновато поиграл чётками:
– Ну да, заговоры – что же ещё? Жертвенному барану в рот ещё и соли насыпать, прежде чем глотку перерезать! Ничего, я вам соль-то эту верну сторицей! По уши в соль закопаю – посмотрим, каково-то вам будет солоно! Дождутся они у меня, потом жалеть будут – да поздно: с варвара какой спрос? – Кинул Шлосеру ещё пару алтын с обещанием, что напишет послу, чтобы тот стрелки эти треклятые прислал; видя, что Шлосер, сунув монеты в прорезь, нерешительно топчется и скребёт в затылке, спросил: – Чего ещё выроешь из своей черепухи?
– Эт-то… Пом-мнишь, фелики цар, два маленьки цыплята, сынк-ка павлинки пропал-ла?
Нахмурился. Птенцы павы? Павчата? Как не помнить! Всем двором искали, не нашли, а до этого нарадоваться не могли, когда у павлиньей пары, присланной мелким ханом с юга, народились цыплята: росли и глаз ласкали, даже дочь Евдоксия улыбалась, на них глядючи, когда её в тиргартен выносили. Подросли. И вдруг недавно два курчонка пропали, как сквозь землю провалились.
– Что, нашлись? А то павлин скорбен был, ночами кричал…
Шлосер заторопился подтвердить:
– Да-да, фатер-пфау[48] так кричаль, свой цып-плёнки искаль… И муттер-пфау плакиваль, и яйцы ногам в разны сторон кидаль… Вот, я узнал: эти цыплёнки унзер золдат Мишка Моклок себе на обед кушаль… Пьян быль, взяль и жариль и кушаль…
– Что? Мишка? Моклоков? Как? Ощипал, сожрал? Эй, кто там! Васка! – Вздыбился на постелях и крикнул заглянувшему стрельцу, чтоб Мишке Моклокову всыпать три дюжины батогов, но, когда дверь закрылась, опять позвал, уже тише: – Васка! Васка! Стой! Три дюжины – многовато, негоже за птицу человека казнить… Влепи ему дюжину горячих, и пусть отныдь клетку с павами каждый божий день метёт. Таково-то будет ему, бездушнику, царских птиц хитить! А ты, Шлосер, молодец! Хорошо за моим добром смотришь, даром что немчин! Вот тебе и помощник нашёлся, Мишка Моклок! Он и стрельцом не особо ретивым был, не жаль… Держи, – кинул ещё монету, – с тем поделись, кто тебе про это сказывал, – пусть и ему выгода за ретивость и преданство будет… А кто это был? Кто тебе про Мишку рассказал?
Шлосер сделал удивлённое лицо:
– Как кто? Сам Мишк-ка сказаль… Кому монет-т давать?
Усмехнулся:
– А… Ну-ну… Я же говорю – осёл на двух копытах твой Моклоков! Гадость сделал – и сам же о ней и раззвонил, как же не петый дурень? Монету себе оставь, пригодится! И всё, что услышишь, мне доноси! Понял? Сразу ко мне беги! Ну, иди теперь! И сапоги-то эти дурацкие поляцкие сними, стрельцов не дразни… А то, не ровён час, и пульнуть могут по старой привыке! Иль ты тоже сбежать задумал? А? А ну говори! – Вдруг вперился в Шлосера косо, по-птичьи, правым глазом (коий был явно крупнее левого), отчего у немца внутри всё потемнело: всем известно, что царь просто так ничего не говорит…
– О найн, найн! Майн готт! Найн! Нет! – попятился Шлосер и, ткнувшись спиной о дверь, застыл как чурбан, нащупывая рукой задвижку и не отрывая взгляда от царя.
А тот, обхватив голову рукой, растерянно и скорбно произнёс:
– Странно сие… Странно зело… Странны такие их повадки… Почему не хотят фряги со мной в мире жить? Ведь от меня больше пользы будет, если со мной по-доброму, а не так, по-собачьи… И что я – чужой для них? Да я – один из них! В моём роду, куда ни глянь, – одни цари и базилевсы, хоть через Рюриково колено, хоть через Цезаря, хоть через Палеологов…
– О, я, я, Палеолог, бабуленка Софьяшка, либерей, бибилиоте́к… – благоговейно возвёл глаза Шлосер, радуясь, что царь ушёл мыслями от его мнимой измены, на что тот досадливо отмахнулся чётками, стащил с голого черепа скуфейку и отёр ею лицо.
– Да не только! Знаешь ли ты, что я к Палеологам ещё и другим боком прилегаю? Не только через бабушку Софьюшку, мать моего отца Василия, – её я не видел, она до моего рождения умерла, но и через другую бабушку, баку[49] Аку, мать моей матери Елены. Бака Ака меня растила, кормила-поила, когда вся моя родня упокоилась… Она мне и любимую Анастасию в жёны нашла… Я баку Аку больше всех люблю… – И поведал, что эта бака Ака, сербская княжна Анна Якшич, происходит из славного рода Якшичей, породнённого с родом сербских королей Бранковичей, а те в свою очередь – в близком сродстве с Палеологами. – Так выходит, что я и с другой стороны к Палеологам примыкаю!
– Унд во ист етцт[50] эта Ака? Умирал-л?
Твёрдо ответил:
– А как же? На земле никто не останется! Усопла! – повторил и, решив правдой загладить ложь, сообщил, понизив голос: – А главное – эта бака Ака была в сродстве с самим Владом Цепешом Дракулом через его сына Михню!
Шлосер зацокал языком, сделал вежливые удивлённые глаза:
– Тот Дракул-л много люд-ди на кол посажив-вал… кровь пил… Да? – хотя не раз слышал и о баке Аке, и о её родстве с Владом Колосажателем.
Отмахнулся:
– Глупотворство! Никакой крови он не пил! Цепеш был великим человеком! От одного его имени турки калились от страха… А Дракулом прозван, потому что его отец состоял в ордене Дракона, по-ихнему Дракула… На кол сажал – это да, было, любил. Но кого сажал? Врагов, турок! При нём чалматые собаки на Балканы нос не казали, а у меня вон Москву сожгли… Я бы их тоже всех на колы попересажал, попадись они мне! Нет, Дракул был хитёр и смел, малыми силами всегда побеждал!
И рассказал, что всё это колосажание началось с того, что Влад с братом были взяты в юном возрасте к туркскому султану в заложники, чтобы их отца, валашского князя, усмирить. Да не просто взяты, а прямо в детский харем сунуты, где их драли в задний оход почём зря так борзо, что у бедных братьев в гузнах от многих содомских соитий старая кожа стиралась, а новая капустой нарастала. А когда Влад хитростью оттуда вырвался, то поклялся, что всякий турок, встреченный им, будет посажен на кол, что исправно и делал до смерти…
Далее Шлосер, простодушно хлопая глазами – чего только великий царь не знает! – услышал, что первое колосажание произошло с отрядом в три тысячи турок: Дракул подстерёг их в засаде, пленил и рассажал на колы прямо на дороге, где они были пойманы, сохранив их строй: мурзы и муллы сидели впереди на самых высоких – и самых мучительных – колах. Когда туркские лазутчики в поисках пропавшего отряда попали на эту дорогу, то в ужасе кинулись прочь, а султан, услышав эту весть, пришибленно прошептал: «Невозможно отобрать страну у мужа, способного на такие деяния!» – дал команду на отступление и после этого долго не решался домогаться владений князя Влада Казыклы[51].
И был сделан вывод:
– Турки только силу уважают! Чем злее, сильнее и жесточе с ними – тем они лучше понимают! Да и не только они! – с чем Шлосер и был отпущен.
Угрюмо завернувшись в покрывало, стал впадать в нехорошие грёзы. Видел фрягов-иноземцев: вот они, за казнями наблюдая и в ладоши хлопая, меж собой ухмыльно переглядываются, разодетые в цветные шелка, словно вечный праздник у них. Взирают свысока на его народ, как на скот…
Вспомнилось письмо от фряга Юхана, нового королишки шведского, что брата своего удавил, сестру в башне извёл, а её дочерей, своих племяшек, обесчестив, к себе в покои поместил. И даже мать, свою родительницу, в проруби якобы случайно утопил, узнав, что она в другой раз беременна, – чтоб соперника на престол в нерождённом виде уничтожить! Вот каков мерзавец прощелыжный! А отец его и дядья саморучно баркасы с рыбой разгружали – пристало ли это королям? А бабка его, прелюбодеица, в зазорном доме сводней была. Вот какие теперь короли пошли – баркасы разгружают и блудням ноги моют, смехота одна! Кубышки, полные сранья, и больше никто они!
Но каков дерзец этот Юханка подлый! Чего захотел, студень! Кто ты есть, выскочка, собачий сын, рыболов, куроцап, простолюд? Ты кто мне – брат, сват? И ты, самозванец, пёс и скалдырник, просишь, чтоб царь с тобой прямым ходом сносился, грамотами обмениваясь? Не бывать этому, пока я жив!
Распалялся мыслями до дрожи телесной. И почему-то всё время тянуло чесаться – тело так и зудит, словно по нему гниды ползают, хотя сего дня уже два раза относили в мыленку, сажали в бочку с душистой водой, где он, не открывая глаз, сладостно чухался сам, а куда не доставали руки, чесали уже слуги: Прошка драл спину, а Ониська расчёсывал ступни, иногда в благоговении украдкой целуя суставчатые пальцы – ведь если даже навоз царёвой лошади целебен, то чего уж тут о целовании рук и ног говорить?
Но что-то особо сильно чешется муде. Оно и раньше мучило, но теперь стало свербить невыносимо – рвал его ногтями, даже ложкой пытался ковырять.
Откинул перину, задрал ночнуху, начал чесать елдан – и вдруг вычесал на свет божий прыщ с копейку-московку: язва сидела на елдане, прямо на самой плюшке[52], была плотна на ощуп и перламутрена на вид, но сколь её ни дави – не лопалась и гноя не испускала. А вкруг этой набухлой язвины кружевным воротом притаилась цепочка мелких гнойничков, из коих точилась светлая мокрядь.
С животным ужасом, с опаданием сердечным вперился во вставший елдан, у коего словно щёку раздуло на одну сторону. «Господи, помилуй меня от новой напасти! Что это? Что за кара новая взвергнулась на мои плечи? За что мне, присмирелому, ко злу снулому, такое?»
И раньше там, в мудях, возникало разное: и лёгкий гноишко сквознячком попрыскивал по утрам, и рези бывали при сцании (травами сняла одна ведунья), и мелкая насекомая гадь случалась (сбритьём волос и примочками вылечили), и иная слабостная хворь нападала, а в юных годах так вообще чуть не окочурился.
Тогда их шайка решила вспороть брюхо кобыле на сносях, чтоб поглядеть, каков там жеребёнок: Малюта спорил, что уже жив и побежит, а Клоп думал, что нет. Но чтоб вспороть брюхо, кобылку надо привязать. В этой кутерьме и было влеплено ему копытом в пах, с коих пор елдан болеть и противно пахнуть начал, по утрам белую накипь из себя выкапливая. Надо было к знахарке идти. Бабка Глафира ощупала муде, посмотрела накипь на просвет, после чего дала красный порошок, велев его в цветочном взваре разводить и этим елдан полоскать, а потом этот взвар обязательно пить давать кому-нибудь, на кого болезнь и перейдёт, – а по-другому не избавиться никак!
А кому такое дашь пить? Кто такое пригубит? Разве что колодники? Тогда велено было слуге Фильке носить взвар в острог и по четверть копейки платить тому, кто выпьет, и следить, чтобы пили, а не на пол лили. И что? Носил якобы. А потом вдруг из окна было увидено, как Филька, царство ему небесное, воровски озираясь и деньгу за щеку спрятав, с крыльца взвар выплеснул, проваландался малость и, придя как ни в чём не бывало, соврал, что колодники-де всё выпили, «спаси Бог» сказали и ещё просили, за что и был жестоко отмутужен подсвечником.
Но бабка Глафира, узнав об этом, сильно всполошилась: если ленивый слуга всё время взвар на землю выливал, то злая болезнь теперь на всю державу переметнётся, а как же! Надо виновника наказать! Филька был согнан в скотники, где его скоро бешеный бык забодал, после чего дело пошло на поправку: дурной запах притих, а белая наледь сама собой пропала.
А теперь вот это новое наказание.
«Ну, пройдёт…» – решил, заглотнув шарик ханки, но всё ж таки велев Прошке тайно вызвать лекаря асея Ричарда Элмса, умевшего держать язык за зубами – не то что лиса Бомелий, коий наверняка разнесёт про блудни старой плутни – у государя-де язва от греховных совокуплений, горе, горе всем нам!
Вдруг вспомнился подслушанный недавно разговор Прошки с Ониськой – мол, Бомелий говорит, чтоб царёвы портки только одной портомое мыть давать… К чему бы это говорено? Неспроста! И раньше бывали прыщи, свищи и нарывы, как без них, правда, не на елдане и не такие здоровенные, как этот гнойный струп! Почему Бомелий сказал «только одной портомое давать мыть»? Просто так старая лиса ничего не говорит… Плохо!
Растревоженный, с головой, полной гудящих пчёл, приказал Ониське потащить его к помойному ушату, а на обратном пути осторожно дошаркал до двери, выглянул в щель. «Так и есть, опять припёрлись!» – недобро подумал при виде вытянутых лиц пятёрки бояр-шептунов, безмолвно сидевших вдоль стен.
У, морды собачьи, рыла свиные! Кто вас звал сюда? Тут сидят скромно, смотрят умильно, что твои серафимы, а как за порог – так рожи корчить и замыслы плести, по глазам бесстыжим прочесть можно!
Раздражённо схватил поданную Прошкой рясу:
– Чего ты мне этот бабский выношенный салоп подаёшь, чурбанча безмозглая?! Вот я тебя, шкура! – Хлестнул ею слугу, а потом швырнул на пол и начал топтать, крича: – Я вам покажу, как надо мной изгаляться! Покажу, какова я баба! Всех перевешаю как бешеных собак! Забыли, скоты, старое время? Давай ту, с тёплой подволокой!
Одевшись, ткнул дверь посохом и высунулся в щель. Бояре прямо со скамей молча сползли на колени, уткнулись лбами в пол.
– Отзыньте отсель! Челобитьё на столе оставьте… – Бояре с шорохами и охами – «живи долго и невредимо, государь», «счастлив будь, наш царь и великий князь» – сложили на столе бумаги и, попятившись, исчезли. – А ты, Арапышев, зачем притащился? – спросил у думного дьяка Разбойной избы, скромно стоявшего на коленях поодаль от других. – Что? Дел много собралось преважных? Так иди к Семиону, он теперь решатель, а у меня дел нет, кроме о душе своей бессмертной печься…
– Без тебя ничего не решаемо на Руси, – говоря это, Кузема Арапышев, румяный, видный, окладистый, с собольей шапкой в руке, ворот шубы – козырем, открыто и покорно смотрел с колен царю в глаза.
– Аха-ха… Ну, заходи, хоть и не до тебя… И фигуры расставь, в чатурку[53] сыграем. Или в тавлу[54] хочешь? Нет, давай в чатурку, она меньше от судьбы зависит… Мудрецы сказывают: кто на этом свете за чатуркой умрёт – тот на том свете вечность будет с Буддой в эту игру резаться!
– Как прикажешь, честь великая с тобой во всякие игры играть, – с наигранным воодушевлением стал мять шапку Арапышев (всем известно, что играть с царём опасно: проигрывая, он серчал, бесился, драчлив бывал и мог всякое сделать при проигрыше – ножом пырнуть, доской по башке заехать или вообще пальцы оттяпать, как у того незадачливого подьячего из Посольского приказа, умудрившегося шесть раз подряд выиграть у царя в тавлу, несмотря на кашли и безмолвные глазные предупреждения воеводы Мстиславского, при той игре случившегося, пока царь, взмокший от бешенства, не велел подьячему руку на стол положить и не полоснул кинжалом – якобы за обманство – так сильно, что пришлось два пальца на полу искать).
Вернулся в постели. Арапышев, осторожно войдя следом, без стука и звяка уложил на пол посох, прикрыв рукоять шапкой, придвинул низкий мозаичный поставец к постелям и, встав на колени, начал расставлять фигуры на большой клетчатой доске.
Глядя на дьяковы холёные руки в перстнях, опять вспомнил про письмо шведского королька Юхана. Нет, но чего удумал, выпь безродная, – напрямую со мной сноситься! Много чести для холопа! Что я, ровня тебе, колупаю брыкливому? Вы, шведчане, завсегда отчиной моих отцов и дедов были – и будете, аминь, дай только зиме пройти!
Арапышев, разложив фигуры и потупив глаза, смиренно ждал, склонив белое лицо к полу и рассматривая свои руки.
Ответ на наглое письмо Юханки начал вспухать в мозгу: слова кружат, роятся, стягиваются в цепочки, катаются, словно капли по слюде. И сколько ни отмахивайся от них, спасу нет: словесная мошкара, гладоносна и кусача, жалит до тех пор, пока, вытащив из-под постелей бумагу и туркский кара-даш, чёрный грифель, не стал избавляться от слов, выбрасывая на лист тельца букв, кои оживут при чтении и будут так же жалить, терзать и грызть Юханку, как ныне жалят и кусают его мозг. Да превратится словесная саранча в камни! Да прольётся этот камнепад на голову никтошки Юханки, сокрушит и удавит его!..
Отписав кусок, немного поутих, отложил лист и, не выпуская кара-даша, цепко пробежавшись пальцами по своим фигурам, приказал:
– Делай ход, Куземка.
– Как же? У меня ить чёрные?
– Ну и что? И чёрные, бывает, вперёд белых выбегают.
– Как прикажешь, государь.
Не смея перечить, Арапышев передвинул пешку.
Какое-то время играли молча. Вид доски успокаивал его – чудилось, король ему кивает, королева подставляет резное ушко, белые ангелы-пешки ровным рядом выстроены к смертному бою, слоны готовы врубиться во врага, а ладьи, словно башни, с двух сторон охраняют королевскую рать.
Эти чатурки – подарок индийского раджи. В послании было присовокуплено, что именно этими чатурангами их бог Будда с великим змием в джунглях играл и выиграл у змия мир. И живого слона Бимбо раджа прислал в придачу. Жил слон на Москве в ангаре, за цепь к столбу прикован, на радость детям и нищим (простой люд к слону гулять ходил, по полушке за посмотр платил). А во время чумы кто-то по Москве слух пустил, что все беды и заразы – от слона и его надсмотрщика. Ну, индусёнка сожгли в бочке с маслом, а слона никак не могли убить: и в сердце пытались пикой попасть, и из луков по глазам стреляли, и здоровущие камни с тына пускали – всё впустую. Потом кто-то надоумил связки на ногах палашами перебить, отчего зверь на бок завалился, а псари, слоновьи ноги арканами связав, у полуживого зверя бивни вырубили и на царский двор снесли; там они так и валялись, пока остатки мяса не сошли и один голландский стряпчий их не купил, чтобы уволочь в Амстердам, – из них, говорят, великий мастер Ван Бомм прекрасную птицу феникс вырезал. А слоновью тушу резали всем миром и давали собакам, и нищие с калеками, говорят, этой убоиной не брезговали, хоть и заразна она была якобы… Да что там слонину – в голод и мертвечину ели! И как перед Господом отвечать, если спросит, почему такой голод в державе допустил, что народ человечины не чураться стал? И кто виновен, как не царь, что люд от голода мрёт, когда у царя в закромах сотни пудов ржи и пшена напрятано, хотя, видел Господь, это для войска и войны припасено было?
Глядя одним глазом на доску, а другим – в недописанное письмо, продолжал набрасывать в уме ответ выскочке Юханке, усмехаясь про себя словам из письма христопродавца Курбского, что он-де, Иван, пишет не как царь, а как конюх и неуч, канонов не блюдя и слова базарные вкрапляя. А как хочу – так и пишу, тебя не спрашиваю, свинья злосмрадная, каин, искариот! Тебе ли указывать, как писать, невежде, перебежчику? Да и кто вообще мне тут, на земле, указчик? Слова надо такие брать, чтоб они молотом били, а не с экивоками да приседаниями лебезили, как это ты у своих гнилых поляцев научился, перед ними на задах прислуживая на пару с другим душепродавцем – Васькой Сарыхозиным! И если ты, сума перемётная, свой злобесный лай в воздушные словеса облачаешь, в виршевых согласиях яд пряча, то я рублю тебя моим гордым словом наповал, до лядвей, до мудей, как покойный Малюта Лукьяныч с врагами делывал!
Да знаешь ли ты, аспид гнусный, отщепенец и клятвопреступник, что меня грамоте сам Мисаил Сукин обучал? Строг был, ошибку по сту раз переписывать заставлял и розгами не брезговал, но главное – учил, чтобы своим природным языком изъясняться и писать. А тем дурням, кто наш говор иноземщиной пачкать будет, – ноздри рвать и язык резать!
В гневе откинулся на подушки, с неодобрением задержал взгляд на дьяковых пальцах в перстнях:
– Кольца не жмут? В носу ещё не хватает, как у медведя! Почто припёрся? Что за пожар? Чего зенки выпучил, словно хрену объелся?
Арапышев уважливым шёпотом донёс, что дел много сгрудилось и все какие-то крюкозябрые, без государя не осилить, а на замечание: «А Семион на что?» – с жаром повторил, что без царя ничего не решаемо в державе.
– Ну, начинай! – разрешил со вздохом. – Не знаешь, с какого конца клубок дёргать? С худого, с какого ещё? Индо у вас в Разбойной избе иные концы бывают?
Арапышев, оставаясь на коленях и вытащив из-за пазухи стопку бумаг, пересмотрел их и принялся мерным ровным голосом говорить о том, что третьего дня по доносу слуги в доме чучельника Ляпуна Курьянова на Орбате («того, что медведей для Кремля шкурил, знатный мастер») было найдено три мертвяка, а сам Ляпун в диком виде, кровищей измазан, в подполе аки зверь обретался. После допроса вывернулось на свет божий, что года три назад чучельникова дочь Лада двенадцати лет от роду была выдана замуж за паренька повзрослее. Пока девка дозревала, с этим мужем-мальцом, как водится, тёща, то есть жена Ляпуна, сношалась. Ляпун знал про то, но молчал, ибо сам небезгрешен был по снохачеству. Но вот дошло до того, что дочь, эта Лада, подросла и тоже стала с мужем жить, а её мать, то бишь Ляпуна жена, стала ревновать и, за что-то придравшись, сковородой так огрела дочь по голове, что убила насмерть. Ляпун, увидев это, кинулся душить жену, а когда молодой зять пришёл ей на помощь, то Ляпун прикончил и его, и её огромным шкурным шилом, а сам в безумии в подпол уполз, где выл и скулил по-собачьи, пока слуги его оттуда не выволокли.
Нахмурился: сколько ни борись с этим птичьим грехом – ничего не помогает! А ведь даже в Судебник записали, что не дозволено тёще жить с зятем в ожидании, пока жена-малолетка подрастёт, как это в стародавние времена принято было. Ан нет! Всё равно по-старому делают, ибо всем хорошо: девка зреет без беспокойства, муж её сопливый с тёщей разным постельным премудростям обучается, а хозяину без присмотра от обрыдлой жены по молодкам всласть ходить дозволено. И все при деле! Истинно говорят: псовая болезнь – до поля, а бабья – до постелей… И вот чем кончается! До чего доводит плотская похоть! Три трупа! Теперь такого искусника-мастера наказывать надо – а кто чучелы делать будет?
Перекрестился:
– Светлая память убиенным! А судить там некого, кроме чучельника? Может, помогал ему кто? Потатчики какие есть?
Арапышев удивлённо развёл руками:
– Да долго ли – шило воткнуть? Ран на телах и не видно было – так, точки красные! А у дочери, да, сковородой череп раскроен…
Утёрся скуфейкой, перебрал чётки:
– Ты видел этого Ляпуна – лыс он аль волос на башке есть? Есть? А лишить его чести[55], а потом пусть сидит до сосков – он и так наказан, семью потеряв! Да и мастер своего ремесла! Медведей так знатно сделал! Как живые стоят! Италийский посол чуть не обделался от страха, их завидя… Да, до сосков хватит, – решил (а Арапышев сделал пометку – чучельнику сидеть в каземате, пока волосы до сосков не дорастут).
Второе дело было похуже: слухачи донесли, что два царёвых рынды[56], в кабаке сидючи, сговаривались шапку Мономахову украсть, когда царь её во время большой трапезы рядом с собой на лавку положит, дескать, один пусть словно без сил в омрак упадёт на лавку, а другой пусть шапку в суматохе схватит.
– А потом, дескать, из неё сверкательные камни выковырять и в Литву сбежать! Даже, говорят, уже пробовали, как бы эту гадость сотворить половчее, на лавку за треухом бросались…
Это насторожило. Если уж рынды, кои, ангелам-хранителям подобно, должны за спиной стоять и охранять, стали недоброе замышлять, то чего от других ждать? Не то что шапку – голову потерять недолго! Дал алебардой в суматохе по затылку – иди потом разбирай!
– А кто слышал сие? Может, выдумки, навет, награду урвать? Шапку-то эту я напяливаю раз-два в году!
Арапышев раскрыл пальцы:
– Нет, государь, стукачей двое было, оба слышали. И оба видели, как рынды какого-то пьянца, заместо царя на лавку посадив и рядом заячью драную шапку положив, приноравливались, как бы сие половчее сотворить…
– Кто эти рынды?
– Дружина Петелин и Тимоха Крюков.
Швырнул скуфейку на пол:
– Вот псы поганые! И чего я только Тимохе не надавал! И сайдак с шитьём, и шубу горностаеву под белой каёмой, и шапку с песцовым исподом! А как я Дружину одаривал! Ему и два кушака кызылбашских, и безрукавную япанчу из верблюжьей шерсти… А когда у него отец помер – так и смирную одёжу дал на похороны: шубу под чёрным атласом, сапоги сафьяновые. А они вот корону слямзить задумали! Туда же их, в каземат! Допросить, кто с ними ещё в стачке был! И бирючам громогласно объявить на площадях, за что посажены. Враз бы бошки поотрубал, да зарок не позволяет! Ничего, я это дело проясню! Да знаешь ли ты, что моя Мономахова шапка цены не имеет?
И важно поведал притихшему Арапышеву, что сия золотая шапка – дар ромейского базилевса Константина Мономаха своему внуку, киевскому князю Владимиру Мономаху, а к ромейцам она попала из Вавилона, где её нашли вблизи гробницы Трёх отроков среди прочих сокровищ царя Навуходоносора:
– Понял, куда ветви тянутся? – значительно почёсывал бороду и перечислял, что на сей шапке имеется: крест золотой гладкий, по концам его – четыре яхонта, наверху шапки – четыре изумруда, два лала в золотых гнёздах, двадцать пять зёрен гурмицких[57], под соболей подложен атлас червчатый, а влагалище деревянное, оклеено бархателью травчатою, закладки и крючки серебряные…
Третье дело было совсем уж диким: бывший опришник Тит Офонасьев, напившись вдрызг, самолично содрал живьём кожи с двух пленных татар, отдал скорняку, тот кожи обработал, продубил, бухтарму[58] дёгтем смазал, подшил подоплёку из меха, приделал кляпыши[59] – и вышел кафтан. И ходил чванился этот Офонасьев по кабакам в эдаком кафтане, где на плечах уши человечьи топорщатся, а сзади, на спине, носы плюснутые татарские торчат!
Угрюмо покачал головой:
– Да он, видать, не в себе… Очумел, что ли? Умом тронутый дурачок – кто ещё такое содеять может? С глузда съехал народишко! Умом попятился! С живых людей кожи снимать и кафтаны лепить! – Но вдруг заметив, что Арапышев прячет глаза, цепко схватил его за плечо своей длиннопалой крепкой рукой. – Чего молчишь? О чём думаешь? Об опришных временах? О том, что я, изверг, тоже с людей кожу сдирал? А? А? Так я если и делал такое, то лишь чтоб другим неповадно было предательствовать и клятвопреступничать, во страх и назидание! И на себя кафтанов с ушами не пялил!
Дьяк обмяк и обомлел, под гневными пальцами мысли его обмелели: уж ему-то про опришню было многое известно. Да и как не знать? Весь клан Арапышевых был в опришниках (царь поодиночке не брал – сразу всю охапку мужчин из семьи), а ныне он, Кузема, один остался: отец умер, оба брата повешены за налёт на Богородицкий монастырь, а шурину отсекли голову в Твери за самоуправство. А что скажешь? Ничего. Молчать и радоваться надо, что сам пока жив.
Решил:
– Этого людоядца Офонасьева закуй в рогатку[60] и отошли в Пустозёрск – пусть там в ледяной тюрьме посидит! И скорняка, что кафтан с ушами шил, туда же, во льды, на кандалы! Что задумали – из людей одёжу шить! Что, татаре не люди? Прежде наших отцов тут царствовали будь здоров… Да само слово «отец» от татарского «оте»!.. И Чингисхан весь мир бы взял, да погиб от бабьих подлых рук… Коротка и подла душа у бабы, только рядится цветно… Давай, твой ход!
Арапышев, удивившись, что царь оказался столь милостив к душегубцу Офонасьеву, медлил, мялся, что не ускользнуло:
– Ну! Чего мнёшься, как баба?
Дьяк вкрадчиво крутанул на пальце перстень:
– Государь, места этих рынд… ну, Дружины и Тимохи… освободятся… Нельзя ли моего племяша туда взять? Хотя бы и подрындой? Он парень видный, рослый, честный, уже пять лет в московских стрельцах состоит, ничем себя не запятнавши, все только доброе о нём говорят. А так – с тобой будет, вечным светом осиян… Себя за него в залог ставлю!
Вперился в дьяка, как хищная птица в мышь:
– Вот оно что… Племяш, говоришь? А ты, случаем, не для племяша ли место расчищаешь, моих рынд оговаривая?
Арапышев побледнел:
– Что ты, что ты, государь! Как можно! Не я один ведь этих соглядатаев опрашивал, со мной и Клоп… то есть князь Мошнин, был… Он всё слышал… И писец там был, писарь…
Но это мало что значило. Клоп был – ну и что? Арапышев мог Клопа попросить подтвердить, чтоб племяшу поспособствовать. Не в службу, а в дружбу, так сказать… Вполне – что Клопу какие-то рынды? И разве лет десять назад, придя в ужас от царимого повсеместно казнокрадства, не стали на каждое начальное место по два дьяка сажать, чтоб те друг за другом следили? И что вышло? Оба начинали тащить на пару, вместе и вдвойне!
Больше того – он, по совету Бомелия, цепную поруку учредил, заставляя бояр друг за друга поручаться, да не по одному, а парами: за этого поручаются эти два, за этих двух – те четыре, а за тех четырёх – вот эти шестеро… И если кто-нибудь из цепи сбежит, нагрешит или иные гадости сотворит, то вся четвёрка или шестёрка поручателей отвечает: домами, имуществом, сынами, шурьями, а иногда и жизнями. А как иначе? И сын за отца отвечает, и дядя за племяша, и тёща за деверя – небось в едином дому одной семьёй живут, всё слышат и видят, не глухие, чай! Значит – все однодельцы! Все грешны! Все в сговоре, в стачке!
Но и эти цепочки не помогли: как изменяли, воровали, подличали, бежали – так и продолжают, ибо своя рубашка всего ближе к телу, на то она и подлость, чтобы законов не почитать и слово Божие забвению предавать… Да и Клоп ему с детства известен: на всё способен, хотя сыскарь мировой. Так что надо разобраться с рындами поглубже. Поэтому решил по-другому:
– Дружину и Тимоху пусть ко мне привезут, сам их допрошу, а племяша твоего куда-нибудь пристроим… А вообще, Куземка, скоро мне ни рынд, ни стрельцов не надобно будет, меня другое ожидает, – добавил печально, что ввело Арапышева в сомнение (уж не задумал ли государь чего с собой – или с Московией – сделать?) и заставило, опустив глаза, глупо сказать:
– Слушаюсь, государь!
Игра шла вяло: фигуры переставлялись без огонька, Арапышев, опять явно чего-то недоговаривая, напряжённо перебирал бумаги. Помявшись, рассказал, что три рядских купца из Замоскворечья, сговорившись к польскому королю отпасть, скупили много разного ценного – монеты, кубки, утварь, – уже в телегах тайники заготовили, да царёво око и под землёй видит:
– Тут, государь, надо построже – негоже из державы бежать да ещё золото вывозить, его в нашей земле нет… – осмелился от себя добавить Арапышев. – Да ещё и ругались на тебя и твою родню: «Да кто был-то этот варяг Рюрик, которым великий князь так кичится? Ворюга и ворог – вот кто он был! Вот от кого наш царь начало берёт – от разбойника, чему тогда удивляться? Куда игла – туда и нить! Гедиминовичево колено куда как поспокойнее будет, даже и Мономаховичи сойдут на худой конец!»
Пропустив это мимо ушей, злорадно переспросил:
– Нету, говоришь, у нас золота? А ты поищи как следует под постелями! Поищи, поищи, говорю тебе!
Арапышев, не понимая, всё-таки начал шарить под постелями, наткнулся на кожаный тючок, откуда вылупилось нечто, во влажные тряпицы завёрнутое. Развернул. И глаза на лоб полезли: острым блеском вспыхнул самородок размером с кошку, тяжёлый, видом ярко-жёлтый.
– Что это, государь? Откуда? Золото?
С хвастливым торжеством ответил, что этот кусман золота, запрятав под всякий хлам, три месяца тайно везли из страны Шибир от купцов Строгоновых два козака, коим было строго-настрого поручено доставить находку прямо в руки царю.
– Всё, всё у нас есть в изобилии, только извлекать не умеем, зело темны ещё, за немчинами да фрягами не угнаться. А всё из-за татарья проклятого! Им-то, порожденьям адовым, ничего, кроме лошади, нагайки и сырого мяса, не надобно, а нам – всего мало! Прячь золото назад! А купцов этих кнутами наказать, имущество в казну забрать, а самих – на север, – на что Арапышев, заворачивая самородок, робко заметил:
– Повесить бы надобно прилюдно, пусть бирючи объявят, за какое предательство сии купцы казнены. Дело-то зело серьёзно. Что же будет, если каждый за межу полезет и злато в мешках тащить будет?
Напоминание о «тащить» и злате в мешках неприятно кольнуло душу – подёргал бородку, сухо и едко возразил:
– Они же не тащили, только хотели! Их Бог рассудит, а я от смертных дел удалился, – чем ещё более, чем самородком, удивил дьяка: как это – «удалился»? Но слово царёво – закон. Удалился? Будем ждать, когда возвратишься, на всё твоя и Божья воля!
Вздохнув, дьяк уныло порылся в бумагах, оттягивая самое трудное и делая ладьёй ход, но мало думая – так недобро смотрел на него государь, что внутри всё сжималось и ёрзало. А что делать? Надо говорить. Вот собрался с силами:
– Государь, Белоулина видели в Костроме…
Вот этого никто не ожидал. Вот те раз! Белоулина! Как же могли его видеть, когда он – главоотсечён? Ох, плохое время подбирается, ежели покойники в Костроме оживают.
– Пить подай! Там сыта́ в плошке! – враз высохшим ртом приказал, со злобной досадой ткнув Арапышева ногой в плечо и, пока дьяк вставал с колен за питьём, не чуя от страха тела, замер, а в голове чья-то рука перебирала краткие пугливые мысли: «Да как? Зачем? Неужто? Откуда? Каким макаром? Казнённый Белоулин по земле ходит! Не по мою ли душу явился, выползень адов?»
Арапышев, подав плошку, вернулся к доске и, неслышно встав на колени, исподтишка поглядывал на царя, хорошо понимая, что творится у того в душе. Тогда ведь, год назад, не только царь, а и все, кто был на казни, от страха чуть не померли, даже митрополит бросил Библию и, подобрав рясу, кинулся наутёк, крича что-то несусветное, за ним народ повалил, а первым умчался на коне сам царь, прокричав на ходу, чтоб остальных осуждённых отпустили восвояси…
Случилось то страшное дело в день большой стрелецкой казни на Пожаре, на второй неделе по Пасхе. С раннего утра стояли у плах палачи и псари, чтобы казнить по росписи тех государевых слуг, кои, будучи в опришне, злотворничали и самоуправства творили, и тех, кто татарскому налёту на Москву споспешествовал, и тех, кто трусливо от татар бежал.
Когда прибыл царь – на злом жеребце, в чёрно-золотой кольчуге, – начали не спеша. Семерых казнили, отрубив головы, а восьмым был этот купец, Харитон Белоулин по кличке Харя, обвинён в стачке с крымскими купцами, такой высокий, здоровый и могутный, что его никак не могли на плаху уложить и рот заткнуть, чтоб не орал благим матом на царя «кровопийца» и «зверь». А когда наконец кое-как отсекли ему башку, то она продолжала прыгать по земле и кричать что-то громкое, а труп на плахе вдруг вскочил на ноги и принялся трястись, словно в танце, руками трепеща! И никак его было не свалить! Кровь, струёй бия из шейного обрубка, обливала всех кругом, а на землю упадая шевелилась как живая, светясь, играя, словно алая ртуть, шипя по-змеиному и не поддаваясь тряпью и мётлам в руках пытчиков-вертухаев. Так-то было…
Швырнув плошку на пол, уставился в доску:
– И… И в каком… виде его узрели? Без главы? Или как?
Арапышев утёрся рукавом от брызг:
– Да нет, с головой… Стоит себе на торжище с мелким скобяным скарбом как ни в чём не бывало, кричит: «У широкой Хари и плошки глаже!» Власька-стукач говорит, что лицо у него такое румяное, довольное… И всем громогласно объявляет, что он – тот самый купец, святой Харитон, что после казни восстал… Народ дивится и товар его зело бойко раскупает.
От этих слов стало полегче.
– А, хвалится, хвастает – значит, самозванец! Оживший святой принародно хвастать, петушничать и торговать не будет! Конечно, быть того не может, чтобы ожил… Что тогда с телом сделали?
Арапышев подтянул рукава шубы:
– Как обычно – в скудельницу свалили. А голову в ведре, землёй засыпав, в яме схоронили. Прах к праху… Её тогда псарь едва поймать сумел, ведром накрыв… Под ведром только и затихла…
Поморщился:
– Помню без тебя. А руки-ноги у трупа поотрубали? Нет? Плохо! – Помолчал, потом решил: – А послать в Кострому людей, пусть его сюда приволокут!
– Уже послал, – перебрал Арапышев бумаги, – а как же?
– Ну и ладно. Сколько у тебя по мою душу заготовлено? – с недовольным подозрением кивнул на листы. – Уморить меня сего дня вздумал?
Дьяк пожал плечами: что делать, за долго собралось. Выдавил осторожно:
– Государь, вот ещё одно, последнее, но очень худое…
– Что ещё на мою голову? Мало мне худого?
Арапышев со вздохом всколыхнулся:
– Обозы твои с пушным ясаком около Владимира ограблены, стража перебита, меха пропали… А живым оставшийся стрелец говорит, что перед разбоем петуший крик слышен был! Да не один, а со всех сторон! Словно, говорит, адовы петелы закукарекали! – И значительно поглядел на царя.
Оба молча смотрели друг на друга.
– Вот оно что… Петуший крик! Это похуже Белоулина будет… Подай там с поставца шарик бурый, лекарствие моё… Там и вода должна быть, если какая тварь не вылакала…
Проглотив ханку, дрожа от внезапного мороза в ногах, влез под перину, стал глубже заворачиваться в неё. Арапышев ждал, стоя на коленях и вперившись в доску.
Петуший крик – это очень плохо. Это хуже всего. Это значит, что опять объявился Кудеяр, его старший брат, великий князь Георгий Васильевич, Соломонией Сабуровой, первой и законной женой батюшки Василия, в суздальском Покровском монастыре рождённый. Выросши где-то в лесах, в тайном скиту, Кудеяр уже много лет буйствует и разбойствует на больших дорогах и даже, говорят, перед недавним пожаром тайные переправы и сакмы[61] на Москву татарским бекам подсказал. А недавно у крымского царя Девлет-Гирея в Тавриде объявился, в холе был принят, негой облит и во всеуслышание, при дворе, гостях и послах, бахвалился, что он – истинный царь россов, не только старший по возрасту, но и по праву, ибо брак отца Василия с фрягской врагиней Еленой Глинской был незаконен, отчего нынешний злой дурачок Ивашка выходит чистый самозванец, прощелыга, прохиндей и прохвост, с боку припёка, от незаконной блудни Еленки-наложницы прижит, гадёныш и выблядок, власть силой захватил и из народа соки сосёт, Москву профукал – чему Девлет-Гирей много смеялся, кубышку с золотом подарил и помощь пообещал, если Кудеяр пойдёт на Москву младшего брата-самозванца скидывать и себе своё царство по старшинству и роду возвращать.
Слышали мы эти басни про незаконство! И того, дураки, не понимают, что мы не жиды, чтобы по матушке ребёнка вести, судить и рядить, а христиане, где отец – главное! Каков отец – таков и сын! У Владимира Красное Солнышко мать тоже хазаркой-рабыней была – и что? Перестал он от этого быть Рюриковичем? Нет, а только власть над всей Хазарией приобрёл! Отец мне – великий князь московский Василий Третий, сие бесспорно! А кто из царских детей старше, кто когда на трон сядет – для царствования не важно: ежели нет старшего, то правит младший, ежели, не дай Боже, не будет моего старшего Ивана, то на царство сядет младший, Феодор! Так-то идёт испокон века, не нам менять сие!
Арапышев, сжавшись, переждав самый опасный миг и видя, что царь его не трогает, а сидит, выпялив глаза и скребя в бороде, осторожно добавил:
– Но его никто не видел. Только крики. Может, это и не он?
– Аха-ха… В чистом поле на большой дороге – петухи! Как же! Может, и седало[62] там было? И несушки яйца клали? Нет, он это, он! Опять притащился! И небось с своей разбойницей Анной? С блудной дщерью Дуняшкой и деверем Болдырём? А?
Арапышев напомнил, что Кудеяра никто не видел, только слышали петушиный крик: тот выживший стрелец, из пищали поражён, в беспамятстве лежал, а когда очухался – никого уже не было, охрана перебита, следы от копыт, телеги без лошадей, сундуки без товара:
– Ведь хитёр и опытен зело: как обоз ограбастает иль купцов пощёлкает – так сквозь землю уходит! Нигде ничего не тратит, не продаёт, не спускает. И общий розыск делали, и стукачей по весям рассылали, и приманные обозы по большим дорогам пускали, со стрельцами под попонами, – ни в одну ловушку не сунулся, ни один капкан не задел… Уходит, как вода в песок!
От этого стало даже гордо на душе – ещё бы, хитёр и умён, даром что одной крови! А то, что выблядком ругает, так не он один: второй-то брак отца Василия с матушкой Еленой церковью не был принят и освящён, в этом вся докука, и он, Иван, выходит, незаконный самозванец, что ему вечно в строку ставилось боярами, по всем углам кричавшими, что великий князь Василий на вражьей литовской бабе женился, да ещё, как нехристь, бороду сбрил по её приказу, пока он, Иван, всем говорливым бренчалкам и пустомелям глотки свинцом не позаливал и бошки не поотрубал…
Надо крепко думать, как от этой напасти раз и навсегда избавиться, а то из-за Кудеяра он не только стал часто впадать в страх и дурные грёзы, но даже сторонился больших трактов, предпочитая малые лесные дороги, – а по ним и ездить плохо, и отряды водить трудно. Но не могут сыскари выловить разбойника, хоть ты тресни! Куда им за таким резвуном угнаться! Ведь царских кровей – значит, мудр, хитёр, опасен! Чую, придётся самолично этой ловлей озаботиться!
Рассматривая чётки, выдавил:
– Куда же он девается после татьбы? Может, к ногаям в степи уходит? Или в свои керженские леса уползает? Или за Волгу кидается? В Пермию к язычне? Чего молчишь? Не знаешь? А вы на что? Почто вас содержу на кормлении? Чтобы вы вовремя всё знали, а не с разинутыми ушами сидели и ждали, когда Кудеяр на Москву двинет и с собой крымцев, ногаев, табасаранцев, черемису, татар и других нехристей приведёт! Иль ты с ним заодно? Небось, деньги берёшь и отпускаешь? А? Говори, иродомордец!
И, в гневе схватив пригоршню фигур, швырнул их Арапышеву в лицо – тот не посмел уклониться, только забормотал слезливо:
– Спасибо за науку… От разбойника деньги?
Но удержу уже не было:
– А это что у тебя на руке? Не тот ли перстень, что Кудеяром с убитого воеводы Можайского снят был? А, собака?
Арапышев закрестился, смаргивая слёзы:
– Нет, нет, что ты! Вот те крест, это от отца мне перешёл, по заднице[63]!
И слёзы не трогали, ярился дальше:
– Врёшь, пёс! Весь в перстнях и злате, аки базилевс ромейский! Негоже дьяку Разбойной избы в алмазах красоваться, как бабе продажной! А ну сымай все кольца, блуда твоя мать! Ну! Вон в тот ларец кидай! Не то с пальцами отрублю!
Видя, что царская рука тянется к кинжалу, Арапышев стал спешно стягивать перстни с пухлых пальцев, кидать в ларец, а царь угрюмо следил, чтоб ничего не осталось:
– И цепь с шеи! И рукоблуды эти! – Дотянулся ножнами до браслета с камнями, блестевшего из-под рукавов дьяковой ферязи. Подождал, пока Арапышев стащит всё с рук, захлопнул ларец и поставил возле себя на постели, прикрыв периной. – Вот так-то лучше, надёжнее…
Обобранный Арапышев бормотал:
– Спасибо, государь, впредь умнее буду… Спаси тебя Бог, что уму-разуму нас, дураков, учишь…
Пристукнул кинжалом по ларцу, глухо звякнувшему под периной, отчеканил строго и веско:
– Вот тебе моё последнее слово. Если керженского вора Кудеяра сюда в кандалах со всей его шайкой не притащишь – плохо тебе будет! Из фуфали в шелупину живо перекину! Даю время до Михайлова дня. Нет – пеняй на себя! Секир-башка! Иди с глаз моих!
Арапышев поднялся с колен, взял посох, шапку, стал задом пятиться и пропал.
Спустив дрожащие ноги в домашние чёботы, попытался дойти до помойного ушата, но куда там! Всё вокруг шаталось, кружилось, морщилось: Ляпун с топором, купцы-изменщики, подлые рынды, безглавое тело в жутком танце, и всклокоченный Кудеяр, и страшные крики петуха перед новой зарёй, коей уже не будет для него – убогого, бедного, оболганного, всеми угнетаемого, убитого…
Опустился на пол и затих.
…Ночью сидел в постелях, набрякнув телом, обуреваем ужасом и дрожа, как квашня в крынке. Обволакивал сильный страх, нападавший с детства и пробиравший до дрожливого столбняка. Страх бывал разный: бояр, расправы, мальчишек, мести, смерти – но всегда сильный, неодолимый, до нутра костей.
Пытаясь спастись от этой душевной хвори, бормотал в голос, утирая слёзы и взывая к тому главному великому Существу, к коему редко решался обращаться напрямую, а только через ангелов и Богородицу, как простой воин к воеводе – только через сотника:
– Господи Боже, всесильный владыко жизни и смерти, внемли, рассуди! Ты лучше меня знаешь, как я пытался наставить мой народ, пугал и казнил, наказывал и миловал, любил и холил, угрожал и истреблял – всё впустую, всё тщетно! Отныне снимаю с себя ярмо ответчика, ибо народ мой неисправим, предан праздности, лени, обману, скотскому непотребству, я же сам – тих, ласков, нежен, добр: почему же должен гореть в геенне огненной, в тартарах адовых? Ведь всё, что делал, – только по воле Твоей… Но тщетна вера без любви… Кому не по челу терновый венец – собачью шапку носи… Больше не в ответе… Отрекаюсь от своего народа и от всех его невзгод – пусть сами расхлёбывают! А то что выходит? Всегда я один виноват? И если птица Симаргл кудесит в лесу – то я при чём? Русалка где хвостом всплеснула – а я виноват? И если медведь-губач невинных козлищ загрызает – опять я голову клади на плаху? Как же уследить за всем миром? У меня, кроме пары глаз да ушей, ничего и нету более… Реки льдом укрыты, спят – а я бодрствуй, сторожи? Если скот не плодится, хлеб сгнил и урожай сгинул – за что же меня на правёж под кнуты? Каково такую державу в обзоре держать? Орёл-четырёхглав и то не уследит, не то что сраный человечишко… Человекоцарь? Царечеловек? Разве я сороконожец, чтобы всюду поспеть? Сил лишился я через всех – и ухожу! Рёк пророк: горе мужу тому, коим управляет жена. А Московия – это жена моя, а я – муж её и отец! А каково женой управляемым быть? Нет, не бывать тому! Всего народа по монастырям да казематам не рассадить – значит, мне одному, самому, уходить надо, а они как хотят, пусть так и живут! Иноком, схимником, пещерником, затворником! Дай знак, Господи, тут же исполню! Плохо чёрной овце в белом стаде, но куда хуже белому безвинному овну в чёрной стае грешников, а я таков – безвинен, и кроток, и богомолен, и тих, и скромен…
Снаружи слышны голоса и скрипы. Взлетало тявканье собак, глухо и коротко отзывался Морозко. И что-то тёмное вкрадывалось в келью, шарило по углам, коготками постукивая и мышей пугая. «Вот он, Кудеяр! Вот она, смерть моя!» – лепетал про себя, летя в пропасть страха вверх тормашками.
Так и сидел в постелях, старый худой человек – борода всклокочена, глаза воспалены, череп блестит в поту, – и безотрывно смотрел на свечу, и свеча вдруг начала дёргаться и погасла, словно изнемогши под его стопудовым взглядом.
Но и в темноте не умолкал страстный шёпот:
– Боже, а как я хотел привести людей моих радостными и довольными в райские Твои кущи! Как бы я хотел сесть вместе с ними у ног Твоих и сидеть вечность, камешки перебирая! Но не дано мне такое блаженство! И нет у меня больше выхода, как уйти пещерником в схиму. Или на чужбину бежать, где ждёт меня жалкая участь. Чернец, беглец, подлец! О, как темно и холодно, Господи, в царстве моём! А я света и тепла алчу! И последний пастух счастливее меня! Он свободен, а я скован, стреножен, обречён!
Тени бродили по стенам, перекатываясь по образам, иногда попадая на карту из буйволиной шкуры, и тогда карта ёжилась и трепетала как живая.
В печатне
Прильнув к стекольчатому окну и проводив опасливым взглядом Арапышева, ушедшего валкой походкой на санный двор, Прошка велел Ониське поторапливаться – надо лететь в печатню; не больно-то хочется, но нужно, ибо лучше самому в себя осиновый кол вогнать, чем царёва приказа ослушаться.
В печатне, отодвинув бумаги, выложили на стол нехитрую снедь – холодные заплывшие шаньги, сыр и половину варёного петуха, раздобытого в кухарне у Силантия. Была и баклажка. Прошка отхлёбывал из неё, наказывая Ониське, чтобы тот был внимателен, букву в букву списывал бы даденное – царь ошибок не терпит, говоря: «правило – от Бога, а кривило – от чёрта», всегда сам всё проверяет, все имена, отечества, прозвища наизусть помнит и, главное, хорошо знает, с кем на каком языке говорить: на простом – с голытьбой и дрянь-людишками, на бранном – с боярами и воеводами, на закомурном – с умниками и богословами, на кучерявом – с послами:
– Сдаётся мне, что он и звериные перелаи и птичьи писки понимает! Сколь раз искали скопом по дворам да закоулкам – царевич-де куда запропастился? – а он с колдунами на засеках ночи коротает!
Но Ониська возразил, что он, того-этого, слыхивал, как царь одного знатного иноземца честил по-чёрному: и сукоединой, и дудкой, и кисляем любодырным. Прошка был снисходительно согласен:
– Это другое. Это ежели он на кого зол, будь то сам папа латинский – нож в сердце врежет не моргнув…
И рассказал: поймав на воровстве тороватого умника-боярина Семёна Олябьева, большого из казны таскателя, но о душе всегда много вещателя, царь так сильно озлился, что разорвал на нём кафтан, исподнее, ударом ножа взрезал ему грудь и стал рыться там, крича: «Где, где она, твоя душа? Покажи! Не вижу! Не могу найти! Нету её у тебя, паскудника, и не было!»…
– Господи! Прямо – и того? – Ониська застыл с куском сыра.
– А что, спрашивать будет кого? Рассёк одним ударом, как куру… Все и всё – его! Он волен и казнить, и миловать… Да что там Олябьев – он слона приказал изрубить на мелкие кусочки, когда сия великая зверь не встала перед ним на колени!
Ониська положил шаньгу:
– Чего? Колена? Как?
А так! Царю из пленной Казани прислали в подарок слона, при всём честном народе подвели носатую зверюгу к Красному крыльцу, где на выносном троне восседал царь, и погонщик похвастался, что слон-де тоже хочет встать перед всевеличайшим владыкой на колени. Царь милостиво махнул рукой, а слон заартачился – и ни в какую! Какое там – на колени! Наоборот: затрубил, на дыбы вздёрнулся и елданом двусаженным размахивать начал! На задних лапах идёт и восставшим елданом туда-сюда помахивает! Царь отпрянул, но от толчка трон покатился по ступеням, царь выпал из трона, чуть под тот карающий елдан не угодив, и тут же, не вставая, велел стрельцам изрубить слона на куски.
– Но как подступиться к такой махине? Кое-как, пока зверь на задних лапах гарцевала, её таранным бревном свалили наземь, а там уж с разных сторон накинулись саблями полосовать и пиками колоть… Страсть кровищи вылилось, до колен хлюпала!
Довольный испугом шурина, Прошка доел за ним петушиную ногу и, не торопясь к писанию, будь оно неладно, сказал, что потом выяснилось: царю по подлому наущению прислали из Казани слона-палача, махаунт-наездник приказал – слон и кинулся на царя!
– Да слон – это ещё что! В Опричном дворце такое ли ещё бывало! Как это – какой дворец? Не слыхал? Ну и дубина! Был дворец на Москве, да сгорел!
И Прошка поведал, что царь, поссорившись с боярами, построил на Петровке особный Опришный дворец, страшный на вид и такой крепкий на деле, что татары даже не сумели в него проникнуть, снаружи закидали горшками с гремучей смесью. А жаль! Красив стоял, как град Божий! Самим царём по книге пророка Иезекииля задуман был сей дом, где встреча человека с Богом произойдёт! По башням – четыре литых орла, очи из яхонтов! На воротах – львиные морды, глаза из зеркал! Стены глухи и гладки, без бойниц, сплошняком, чёрного камня! А внутри дворца всяких припасов, нужных для жизни, не счесть, провизии и питья на три месяца в погребах! Скоморохам и дудочникам сарай отведён. И пытошная башня без дела не стояла. А пороховые тайники под землю так искусно утоплены были, что даже при пожаре не взлетели на воздух – это потом их свои же мужички подорвали по глупости, когда пепелище растаскивали. И подземные ходы были, и схроны, и даже для мельницы воду из реки отвели.
– А вместо зёрен иногда чьи-то грешные руки-ноги меж жерновов попадали!
– Чьи… того? Ноги? Кого?
Прошка равнодушно скривился:
– А тех ослушников, что против государя шли… Руки-ноги молоть – на это покойный Григорий Лукьяныч Скуратов, Малюта, был мастак и умелец… Строго было, не то что теперь! А! – Прошка возбуждённо встряхнулся: – Вон видал – царь какой уж день валялся без головы от зелья этого треклятого, а где это видано, чтобы государи мёртвых котов гоняли или кукарекали? Ну давай, пишем…
Роспись Людей Государевых
Гаврилов Григорей, Гаврилов
Гриша, Гаврилов Дениско,
Гаврилов Тренка, Гаманин
Ондрюша, Гарасимов Кузма,
Гаютин Девятой, Герасимов
Смирной, Гиневлев Богомил
Богданов сын, Гиневлев Гриша
Михайлов сын, Гленской Иван
княж Михайлов сын, Гневашов
Гриша, Гнидин Якуш, Годунов
Борис Фёдоров сын, Годунов
Яков Афонасьев сын, Головин
Григорей, Головин Ондрюша
Меншой, Головин Якуш,
Головленков Василей Григорьев
сын, Головленков Иван Васильев
сын, Головленков Офонасей,
Голубин Дружина, Голчеев
Всполох, Гомзяков Семейка,
Горбунов Безсон, Горбунов
Васюк, Горбунов Ивашко,
Горбунов Тренка, Горемыкин
Митка Некрасов, Городетцкого
Иван Сеитов, Горяинов
Верещага, Горяинов Ивашко,
Горяинов Третьяк, Горячкин
Юрьи, Готовцов Васка Вазаков
сын, Готовцов Васка Ураков
сын, Готовцов Давыд Ураков
сын, Готовцов Митка Фёдоров
сын, Готовцов Фецка Фёдоров
сын, Готовцов Сенка Фёдоров
сын, Готовцов Фетко Фёдоров
сын, Граворонов Васка, Греков
Михайло, Грешной Володка
Клементьев сын, Грибанов
Василей, Грибанов Известной,
Григоръев Ивашко, Григорьев
Володка Иванов сын, Григорьев
Гриша, Григорьев Замятня,
Григорьев Истома, Григорьев
Лешук, Григорьев Матюша,
Григорьев Мещанко, Григорьев
Микифорко, Григорьев Митка,
Григорьев Михайло, Григорьев
Олёша, Григорьев Олёшка,
Григорьев Ондрюша, Григорьев
Онтонко, Григорьев Офонка,
Григорьев Пётр, Григорьев
Сенка, Григорьев Соловко,
Григорьев Тренка, Григорьев
Третьяк, Григорьев Фадейка,
Григорьев Федко, Григорьев
Филка, Григорьев Шарапко,
Гриденков Гаврило, Гриденков
Кузма, Гришин Ерёмка,
Громоздов Первуша, Губарев
Семейка, Губастого Иван,
Губастого Митя, Гунин Девятко
Семёнов сын…
Синодик Опальных Царя
6 июля 7076 года:
Отделано 369 человек и всего
отделано июля по 6-е число.
«Дело» И.П. Фёдорова:
Андрея Зачесломского,
Афанасия Ржевского, Фёдора,
Петра, Тимофея Молчановых
Дементиевых, Гордея
Ступишина, Ивана Измайлова,
князя Фёдорова сына Сисеева,
Ивана Выродкова и детей его
Василия, Нагая, Никиту, дочь
его Марью, внука Алексея,
да два внука, да Иванову
сестру Федору. Да Ивановых
братьев Ивана Выродкова:
Дмитрея, Ивана, Петра детей
Дмитриевых, Веригу, Гаврилу,
Фёдора, да двух жён: дочь его да
внука Выродковых же, 9 человек.
Ширяя Тетерина и сына
его Василя, Ивана, Григоря
Горяиновых Дементьевых,
Василя Колычова, Андрея,
Семёна Кочергиных, Фёдора
Карпова, Федора Заболоцкого,
Михаила Шеина, князя
Володимера, князя Андрея
Гагариных, Афонасия,
Молчана Шерефединовых,
Ивана, Захария Глухово,
Ивана Товарыщова, Фетку
Бернядинова, Михаила
Карпова, Фёдора, Василия
Даниловых детей Сотницкого,
князя Данилу Чулкова
Ушатого, князя Ивана, князя
Андрея Дашковых, Григория,
Семёна Образцовых, Афонася
Обрасцова, Молчана Митнева,
князя Фёдора, князя Осипа,
князя Григория Ивановых, детей
Хохолкова Ростовского, Роудака
Бурцева, Михаила Образцова
Рогатого, Иосифа Янова,
князя Александра Ярославова,
Василия Мухина, Петра
Малечкина, Ивана Большого,
Ивана Меньшого, Василя
Мунтовых Татищевых, князя
Фёдора Несвицкого, Дмитрея
Сидорова, Утоша Капустина,
князя Андрея Бабичева, Карпа
Языкова, Матфея Иванова
Глебова, Фёдора, Ивана
Дрожжиных, Андрея, Григория
Кульневых, Ивана, Третяка,
Ивана, Григория Ростопчиных,
Ивана Измайлова, Семёна,
Ивана, Фёдора, Елизара, Ивана
Каменьских.
41
Мак опийный (лат.).
42
Отвар из трав и маковых зёрен.
43
Преисподняя.
44
Телега для перевозки громоздких, тяжёлых предметов.
45
От sauberes Wasser – чистая вода (нем.).
46
От Klammer – скоба (нем.).
47
От Untersatz – поддон, поддонник (нем.).
48
От Pfau – павлин (нем.).
49
Бабушка (серб.).
50
От und wo ist jetzt – и где сейчас (нем.).
51
Колосажатель (турец.).
52
Головка члена.
53
От чатуранга – шахматы (инд.).
54
Нарды.
55
«Лишить чести» – по одному волосу выщипать бороду.
56
Оруженосец.
57
Жемчужины.
58
Нижняя поверхность кожи или шкуры.
59
Пуговица в виде бруска или палочки.
60
Железный ошейник с шипами.
61
Тропинка, след в степи, в траве.
62
Насест.
63
Наследство.