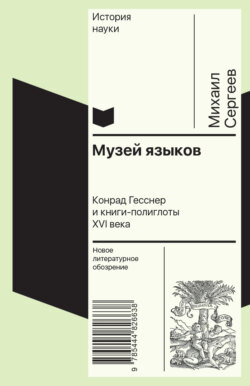Читать книгу Музей языков. Конрад Гесснер и книги-полиглоты XVI в. - Михаил Сергеев - Страница 3
Глава 1. Интерес к языкам в XVI в.
Священные, классические и варварские языки
ОглавлениеДля европейских ученых, начиная с позднеантичных христианских авторов, исходной точкой осмысления языкового многообразия была интерпретация библейских легенд о смешении языков при строительстве Вавилонской башни и расселении народов, начала которым дали сыновья Ноя – Иафет, Сим и Хам – и их потомки (см. обзор версий: Duret 1619, 6–15; Metcalf 1980). Признание на основании этих свидетельств издревле существовавшего множества человеческих языков сопровождалось наделением некоторых из них особым, священным статусом. К их числу относились язык Бога, язык Адама, человеческий язык до Вавилонского столпотворения и языки Священного Писания (Fyler 2007, 1–59).
Неравенство языков было узаконено в образовательной практике: основное внимание в школах уделялось изучению латинского языка и классической литературы. Кроме разницы в культурном потенциале в качестве причины такого положения дел назывались сущностные различия языков: средневековые авторы неоднократно высказывались о невозможности грамматической регуляции языков народных (Percival 1975, 247–248), то есть «варварских». Даже в конце XVI в. находились ученые мужи (из числа иезуитов), утверждавшие, например, что язык восточных славян не может быть языком культуры, поскольку «из‑за обилия говоров он как бы внеположен грамматике» (Панченко 2000, 61).
Звукоподражательный термин βάρβαρος (первоначально засвидетельствованный в композите βαρβαρόφωνος у Гомера) применялся в качестве определения как к языкам, так и к народам уже у первых греческих авторов и подразумевал их «чуждость», «негреческость»23; при этом он мог употребляться как пейоративно, так и нейтрально (Rochette 1997, 41–48). Вполне очевидно, что статус «варварских» делал иностранные языки и народы нежелательными или недостойными объектами изучения, по крайней мере в определенных ученых кругах. Так, например, среди жизнеописаний Плутарха, как отметил С. С. Аверинцев, «нет ни одной биографии настоящего „варвара“», что вполне естественно для этого автора, «с неодобрением называвшего Геродота „приверженцем варваров“ (φιλοβάρβαρος – «О злокозненности Геродота», XII, 857 В) и порицавшего „отца истории“ за излишнее любопытство, с которым последний относился к подробностям истории и этнографии Востока (там же, XII–XV)» (Аверинцев 2024, 181–182).
Определение barbarus прижилось и в латинском языке, однако среди неварваров числились теперь не только греки, но и римляне (OLD, 247). В гуманистической латыни XVI в. словосочетание barbara lingua употреблялось в отношении всех языков, кроме древнегреческого и латинского, а также древнееврейского как священного языка24 и предка остальных языков.
Классификацию языков, отражающую такой подход, сформулировал Конрад Гесснер (1516–1565) в «Митридате»: «Варварскими языками называются все, кроме греческого и латыни. Мы также исключаем [из числа варварских. – М. С.] еврейский, поскольку он, с одной стороны, является древнейшим и как бы родителем остальных [языков], а с другой – священным и божественным языком»25. В «Пандектах» (1548) тем же автором была предложена более сложная схема: «Поскольку то, что относится к грамматическому устройству трех наиболее славных языков – я имею в виду латинский, греческий и еврейский, – мы уже рассмотрели по порядку, следует сказать кое-что отдельно об остальных языках, которые являются или совершенно варварскими, то есть не имеют ничего общего с греческим и латинским, как наш немецкий, или „солическими“26, какими по отношению к латыни выступают возникшие в результате ее искажения итальянский, испанский, французский, а по отношению к древнему греческому – тот, которым [греки] пользуются сейчас»27. Подобной логикой, допускавшей возможность повышения статуса «варварского» языка, надо полагать, руководствовались филологи XVI в., сочинявшие для народных языков благородные генеалогии28.
Несмотря на значительное влияние традиционных взглядов, которое подкрепляла удивительная устойчивость термина «barbarus», рост интереса к национальным лингвистическим историям и любопытство к «экзотическим» языкам привели к тому, что понятие «варварского языка» потребовало переосмысления. В 1548 г. (в один год с «Пандектами», процитированными выше) вышла в свет книга Теодора Библиандера (1505–1564) «Об общем принципе всех языков и письменностей», в которой деление языков на подчиняющиеся правилам грамматики и варварские подверглось решительной критике. За кратким обзором языков мира29 следует комментарий: «Итак, мы перечислили практически все языки, которые когда-либо существовали после их разделения, произошедшего в Вавилоне: из них не только первые и как бы предки [остальных – М. С.] – еврейский, греческий и латинский – подчиняются определенным правилам, но и другие девять, которые обычно называют – как я полагаю, незаслуженно – варварскими. И не должно оставаться ни сомнения, ни неведения относительно того, что всякий язык может быть приведен к правилам разума и [грамматической] науки»30. Впрочем, эгалитаристские взгляды Библиандера на классификацию языков, как и его представления о единых основах всех религий, не получили широкого одобрения у современников (Christ-v. Wedel 2005, 45–55). Вопрос о статусе отдельных языков продолжал находить на протяжении XVI и XVII вв. различные и противоречившие друг другу решения (см. Formigari 2004, 83–94).
Как видно из этих наблюдений, строгая иерархия языков в XVI в. не оставалась непреложной догмой, однако продолжала влиять на образовательные приоритеты, интенсивность и регулярность обращения к тем или иным языкам в ученых трудах. Такое положение дел подкреплялось особой ролью некоторых языков для научных дисциплин, имевших университетский статус: латинского языка – для юриспруденции, латинского и греческого – для медицины, греческого и древнееврейского – для теологии. Однако географические открытия, религиозная реформация и подъем национального сознания, которыми была отмечена рассматриваемая эпоха, заметно повлияли как на расширение языкового горизонта европейцев, так и на переосмысление статуса уже известных языков. Далее в отдельных очерках мы постараемся показать основные факторы, повлиявшие на расцвет языковых штудий в XVI в.
23
Ср. семантическое развитие ставшего нейтральным в русском языке обозначения «немец».
24
На «иудейском» (вероятно, арамейском), греческом и латинском языках была, согласно преданию, выполнена надпись «Иисус Назарянин, Царь Иудейский» на табличке, прикрепленной к кресту, на котором распяли Иисуса Христа (см. Лк. 23:38; Ин. 19:19–20). Здесь и далее цитаты из библейских книг приводятся в синодальном переводе.
25
«Barbarae sive Barbaricae linguae praeter Graecam et Latinam dicuntur omnes. Nos etiam Hebraicam excipimus, quod ea cum antiquissima ac instar parentis aliarum, tum sacra et divina sit lingua» (Mithridates 1555, 3a/b).
26
Греч. σόλοικος ‘говорящий на неправильном греческом’, по названию Сол – афинской колонии на Сицилии – и их жителей.
27
«Sed quoniam quae ad trium clarissimarum linguarum, Latinae inquam, Graecae, et Hebraicae rationem Grammaticam pertinent, suo quaeque ordine persecuti sumus, de caeteris linguis, quae vel omnino barbarae sunt, id est, cum Graeca et Latina commune nihil habent, ut nostra Germanica: vel soloecae, quales ad Latinam sunt, ab ea corruptae, Italica, Hispanica, Gallica: et ad Graecam veterem, ea qua hodie utuntur, seorsim aliquid dicendum est» (Gessner 1548, 34b-35a).
28
См. в этой главе раздел «Генеалогия европейских языков».
29
См. подробнее в Главе 2.
30
«Enumeravimus hactenus linguas prope omnes, quae a divisione facta in Babel ullo tempore fuerunt, ex quibus non modo principes illae et veluti parentes Hebraea, Graeca et Latina praeceptis certis comprehensae sunt, verumetiam novem aliae, quae barbarae solent appellari indigno ut equidem iudico nomine. Ut neque dubium neque obscurum relinquatur omnem sermonem adstringi posse legibus rationis et artis» (Bibliander 1548, 21).