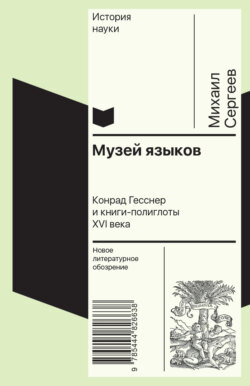Читать книгу Музей языков. Конрад Гесснер и книги-полиглоты XVI в. - Михаил Сергеев - Страница 7
Глава 1. Интерес к языкам в XVI в.
Миссионерская лингвистика
ОглавлениеОт языковых штудий в стенах университетов мы обратились к практике миссионерской деятельности, которая в XVI в. оказала решающее влияние на изучение живых неевропейских языков, в особенности языков Юго-Восточной Азии и Нового Света. В задачи проповедников входило составление двуязычных грамматик и словарей, с помощью которых новые участники миссии осваивали местные языки – для проповеди и перевода богослужебных текстов. Кроме того, с помощью этих же пособий аборигены обучались латыни и современным европейским языкам: двуязычные грамматики и словари могли использоваться в обоих направлениях.
Важнейшую роль в изучении «экзотических» языков во второй половине XVI–XVII в. сыграл орден иезуитов, основанный в 1534 г. В центрах миссии (в Мексике, Южной Индии, Индонезии, Китае и даже Японии, пока та не стала закрытой для иностранцев) открывались типографии, издававшие в первую очередь грамматики, словари и религиозную литературу. Первая книга на тамильском – перевод «Христианского учения» Франциско Хавьера (Ксаверия) – была напечатана индийским шрифтом в Килоне, на юге Индии, в 1578 г.; в Японии с 1591 по 1611 г. иезуиты напечатали не менее 29 книг, в том числе в японской графике (Lach 1994, 496–501). Переводы на китайский язык не ограничивались христианскими текстами: миссионеры общались преимущественно с хорошо образованной публикой и стремились познакомить своих собеседников с европейской наукой. Уже в конце XVI – начале XVII в. на китайский были переведены выбранные места из книг Цицерона и Сенеки, учение Эпиктета, геометрия Евклида (Brockey 2008, 46–52). В Северной и Южной Америке действовали миссии не только францисканцев и доминиканцев, но и протестантов. Еще в XVI в. они перевели катехизис и молитвы на языки нахуатль, кечуа, аймара, тараскан, отоми, чичимека и др., составили ряд словарей и грамматик; с 1524 по 1572 г. только в Мехико было напечатано больше 60 книг (Gray 2000, 932–936).
Вклад миссионеров в изучение языков Востока оставался значительным вплоть до XIX в. Так, на кафедру санскрита в Оксфорде, одну из первых в Европе, была возложена задача способствовать распространению Священного Писания в Индии (Morpurgo Davies 1998, 8–9); такими же представлялись приоритеты востоковедения знаменитому индологу, лексикографу Монье Монье-Вильямсу (1819–1899), избранному боденским профессором санскрита в 1860 г. (ODNB 59, 260–261 [A. Macdonell, J. Katz]).
Заметное влияние миссионерская и просветительская деятельность в «иных краях» оказала и на составителей книг-полиглотов. Неудивительно, что образцами языков в этих изданиях выступали преимущественно переводы христианских молитв. Впрочем, ко времени выхода «Митридата» (1555) Гесснера, не говоря уже о первых лингвистических справочниках Альбонези и Постеля, лингвистические плоды миссионерской деятельности в Западной и Восточной Индии еще не достигли Европы. Наиболее доступным источником сведений об Америке, Центральной Азии и Дальнем Востоке оставались заметки путешественников и связанные с ними документы. Поэтому в главе об «экзотических» языках («О различных языках, преимущественно отдаленнейших земель Татарской империи и Нового Света»61). Гесснер ссылается почти исключительно на сочинения такого рода – книги Марко Поло, Иосафата Барбаро, Пьетро Мартире, Америго Веспуччи, Альвизе Кадамосто (ср. Leu 1992, 300–301). Глава об Америке в «Космографии» (1550) С. Мюнстера (Münster 1550, 1099–1113) также была составлена большей частью из рассказов о первооткрывателях, о чем сообщается в заглавии: «О новых островах: каким образом, когда и кем они были обнаружены»62 (ср. Davies 2011).
Однако за полстолетия, прошедшие от издания «Космографии» и «Митридата» до работы Клода Дюре (ок. 1570–1611) над «Thresor de l’histoire des langues de cest univers» (1613), осведомленность европейцев о Юго-Восточной Азии и Америках заметно повысилась. У Дюре была уже возможность сравнивать египетские иероглифы с письменностью китайцев и американских индейцев (Duret 1619, 378–389); кроме главы, посвященной «языку жителей Восточных Индий в целом» (Duret 1619, 883–899), у него имеются отдельные главы о китайском и японском (Duret 1619, 900–922). При этом в своей «Сокровищнице» он ссылался на целый ряд энциклопедических и специальных работ, написанных или изданных уже после смерти автора «Митридата», в том числе «La cosmographie universelle» Андре Теве (1575), «Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reyno de la China» (1585) Хуана Гонсалеса де Мендосы, «Historia Indiae orientalis» Готхарда Артуса (1600), «Histoire des choses plus mémorables advenues tant ez Indes Orientales, que autres païs de la descouverte des Portugais» (1608–1614) Пьера дю Жаррика, письма иезуитов из Китая и Японии и др.63
Религиозные мотивы путешествий, конечно же, не исчерпывались задачами миссий. На Ближний Восток отправлялись паломники и ученые – для молитвы на Святой земле, прикосновения к христианским реликвиям, знакомства с библейской географией и реалиями. Эти поездки сопровождались покупкой местных артефактов, в том числе рукописей, зарисовкой незнакомых письмен64 и составлением разговорников и словарей – такие материалы также оказывались в распоряжении филологов.
61
«De variis linguis, praesertim in remotissimis terris imperii Tartarici, et Orbis novi» (Mithridates 1555, 70a-71b).
62
«De novis insulis, quomodo, quando & per quem illae inventae sint» (Münster 1550, 1099).
63
Обзор литературы об «экзотических» языках, имевшейся к началу XVII в., приводит Фабьен Симон, отдельно упоминая библиографию справочника К. Дюре (Simon 2011, 225–239). Предпринятая мною полная роспись ссылок на литературу в тексте справочника (сноски в этом издании не использовались) показала, что Дюре почти так же активно обращался к свежим исследованиям и публикациям, говоря о древних и давно известных в Европе языках.
64
Ср. об интересе к египетским иероглифам в XV–XVI вв. (Dannenfeldt 1959).