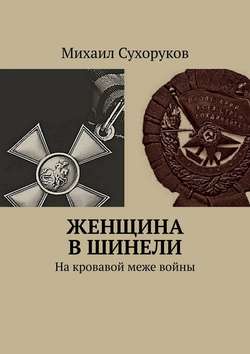Читать книгу Женщина в шинели. На кровавой меже войны - Михаил Сухоруков - Страница 3
Глава 1. «Женская команда смерти» Марии Бочкарёвой
1.1. Женщины-доброволицы в рядах Русской императорской армии
ОглавлениеИмя «кавалерист-девицы» Надежды Дуровой стало символом, от которого чаще всего ведут отсчёт, говоря о службе женщин в русской армии. Бросив мужа и ребенка, она бежала из дома на войну. Выдавая себя за молодого дворянина, молодая женщина под именем Александра Соколова добровольно записалась в армию. Так она стала рядовым кавалеристом в Коннопольском уланском полку. Улан Соколов проявил свою храбрость в 1807 году в первом же бою. Рискуя жизнью, он спас поручика Финляндского драгунского полка. За этот подвиг он был представлен к только что учрежденному Знаку отличия Военного ордена. Этот знак был причислен к ордену Святого Георгия и предназначался для награждения отличившихся в боях нижних чинов. Редкая по тем временам военная награда позже стала называться Знаком ордена Святого Георгия или просто Георгиевским крестом. Награждение этим знаком воинской доблести отличившихся в сражениях нижних чинов производилось в течение 110 лет – с 1807 по 1917 годы.
Описываемые события из военной биографии Дуровой произошли за 5 лет до того времени, о котором ведется повествование в известном кинофильме «Гусарская баллада». Да и награду ей вручал сам император Александр I, а не Кутузов, как показано в этой киноленте. К тому времени секрет её перевоплощения в мужчину был уже раскрыт.
Император пожелал лично вручить награду женщине-героине. Произошло это в декабре 1807 года в Зимнем дворце. Император вручил ей Знак отличия Военного ордена, пожаловал новое имя – Александр Александров и произвёл в чин корнета. Это был первый обер-офицерский чин в кавалерии.
Как видим, официально признать её женщиной в офицерском мундире не решился даже сам император. В чине ротмистра «кавалерист-девица» вышла в отставку. Прожив 83 года, она умерла в 1866 году.
Закон не позволял женщинам служить в армии
Согласно положениям военного законодательства Российской империи, женщины вообще не подлежали призыву в строевые части в мирное время и мобилизации в действующую армию во время войны. Закон о всеобщей воинской повинности от 23 июня 1912 года не предусматривал возможности военной службы для женщин.
На военную службу можно было определиться в добровольном порядке, однако эта возможность была также доступна только мужчинам и при соблюдении всех предусмотренных законом условий. Существовало два варианта попасть в армейские ряды в качестве добровольца: 1) стать вольноопределяющимся или 2) поступить на военную службу в качестве охотника.
Поскольку набор в Русскую императорскую армию добровольцев-мужчин в качестве вольноопределяющихся изначально был ориентирован на подготовку из них офицеров запаса на случай войны, то и требования к кандидатам предъявлялись достаточно высокие.
Добровольная военная служба регулировалась положениями Закона о всеобщей воинской повинности от 23 июня 1912 года и Уставом о воинской повинности, в который периодически вносились дополнения и изменения. Глава XI Устава так и называлась – «О вольноопределяющихся». Вольноопределяющиеся принимались только на строевые должности. Отдельной статьей 219 здесь же были установлены основные положения и условия службы охотников.
Желавшие поступить на службу вольноопределяющимися должны были удовлетворять трём условиям: 1) быть не моложе 17 лет; 2) соответствовать медицинским требованиям «по своему здоровью и телосложению»; 3) иметь «надлежащее удостоверение (диплом, аттестат или свидетельство)» о полученном образовании.
Одновременно были установлены законодательные ограничения при рассмотрении заявлений о приёме в качестве вольноопределяющегося. В статье 194 перечислены пункты, на основании которых кандидаты не допускались в армию даже в добровольном порядке: состоявшие под уголовным судом или следствием; находящиеся под гласным надзором полиции; по приговору суда лишённые права поступать на государственную службу; признанными по решению суда виновными в краже или мошенничестве.
Процедура приема на службу в качестве вольноопределяющегося включала установленную последовательность действий. Необходимо было лично прибыть в уездное или городское «по воинской повинности Присутствие» и подать письменное заявление с указанием рода войск и/или воинской части, желательной для будущей службы. К заявлению прилагались приписное свидетельство, документ об образовании и «удостоверение подлежащего гражданского начальства об отсутствии опорочивающих обстоятельств». Несовершеннолетние и поступающие в гвардию прилагали к заявлению дополнительные документы. С разрешения властей возможно было поступление на службу не по месту приписки, а по месту жительства добровольца.
Медицинские освидетельствования на предмет годности к военной службе производились в уездных или городских «по воинской повинности Присутствиях» специально отобранными и утвержденными в качестве уполномоченных на то врачей.
Списки прошедших отбор кандидатов уездный воинский начальник отправлял вместе с их прошениями и приложенными документами командирам воинских частей для рассмотрения и принятия решения.
Поступление на службу вольноопределяющимся не давало никаких льгот в производстве в офицеры, но открывало возможность в получении первого чина после успешной сдачи установленных экзаменов. Все добровольцы начинали службу рядовыми. Для отличия их от нижних чинов, проходивших службу по призыву, был установлен «особый наружный знак на одежде, не дающий, впрочем, никаких служебных преимуществ». Речь шла о погонах вольноопределяющихся нижних чинов. Они имели окантовку по краям (кроме нижнего) в строго установленном виде: гарусный узкий трехцветный шнур черно-оранжево-белой расцветки, диаметром 1/16 вершка.
Образование – важный критерий для добровольцев
Как уже было отмечено, по действовавшему в царское время военному законодательству для добровольного поступления вольноопределяющимся на военную службу, в числе прочих критериев отбора, было обязательное требование о наличии у кандидата среднего образования. Это было необходимо для формирования резерва, поскольку из числа «вольноперов», как называли в войсках вольноопределяющихся, готовили офицеров запаса. Первые офицерские чины они получали после успешной сдачи экзаменов по программе военных училищ. В императорской армии такие же, обшитые трехцветным кантом, погоны носила и другая категория добровольцев, которых именовали охотниками. Сине-бело-красный витой шнур на погоны для них был введен в 1916 году.1
Для добровольца-охотника образовательный ценз не требовался, хотя все остальные критерии отбора на военную службу были практически одинаковыми с вольноопределяющимися. При этом обязательно учитывалось главное требование к кандидату – охотники изначально по закону не подлежали отбытию воинской повинности. Наличие у кандидата в охотники образования считалось преимуществом при поступлении на военную службу. Известно, что среди охотников было немало образованных добровольцев, которые также, как и вольноопределяющиеся, после определенного срока действительной службы могли допускаться к испытаниям для получения офицерского чина.
Женщины в числе охотников
Попадали в армейский строй и доброволицы. Женщина – охотник была не такой уж большой редкостью для Русской императорской армии. В пункте 3 названных выше Правил под литерой г) указывалось, что поступать охотниками могут «лица, на коих не распространяется действие Устава о воинской повинности…». Разработчики военного законодательства в империи, конечно, не предполагали, что нормой Устава в таком изложении могут воспользоваться патриотически настроенные российские подданные женского пола. При расширительном толковании этого положения, они как раз и относились к тем лицам, которые не подлежали всеобщей воинской повинности.
В книге историка-исследователя Б. В. Арефьева «Охотник» приводится немало примеров прошений молодых женщин и девиц о зачислении их в строевые части для отправки на фронты мировой войны. Такие обращения поступали на имя царя, членов царской семьи, в военное ведомство и иные госучреждения с просьбой о разрешении службы в строевых частях.
Обычно со ссылкой на соответствующие законы и приказы просителям отказывали в приёме на военную службу. Но количество подобных прошений от патриотически настроенных молодых женщин и девиц из разных сословий продолжало увеличиваться. Складывающаяся ситуация требовала принятия общего решения со стороны военного ведомства и генерального штаба. Со ссылкой на документы в фондах хранения Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), писатель приводит важное свидетельство: «По докладу военного Министра ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР ВЫСОЧАЙШЕ повелеть изволил: …допустить прием в войска в течении войны, в изъятие закона, тех женщин, которые пожелали поступить на службу в войска охотниками и получат на то согласие Верховного Главнокомандующего».2
«Правила о приёме в военное время охотников на службу в сухопутные войска» были высочайше утверждены 23 июля 1914 года. А уже 28 июля они были введены в действие приказом по военному ведомству №454. Полный текст Правил был опубликован на первой странице в газете «Русский инвалид». Данный документ дополнял военное законодательство империи положениями и нормами, применительно к условиям военного времени.
Отбор кандидатов на службу в качестве охотников был строго регламентирован. В данных Правилах излагался порядок оформления и рассмотрения требуемых документов. Так, например, имевшие начальную военную подготовку могли сразу подавать прошение непосредственно командирам воинских частей. Те же, кто не прошел военное обучение, подавали прошение на имя уездных воинских начальников по месту жительства. К прошению требовалось обязательно приложить перечисленные в Правилах документы:
– свидетельство о способности к военной службе от врача, непременно состоящего на государственной или общественной службе;
– документ, удостоверяющий возраст;
– удостоверение от гражданского начальства или местной полиции об отсутствии порочащих обстоятельств.
При наличии у кандидата на военную службу какого-либо образования (оконченного или даже не оконченного), к прошению прикладывался соответствующий документ.
Женщины боевом строю – особый случай
Могли ли женщины поступить на военную службу добровольно в качестве вольноопределяющихся? Ведь по формальным признакам в приведенных выше условиях и ограничениях при приеме добровольцев в этом статусе нет прямого запрета военной службы женщин на добровольных началах? Если рассматривать такую ситуацию чисто теоретически, то при определенных обстоятельствах добровольцы женского пола могли бы предпринять попытку законным образом вступить в ряды вооружённых защитников Родины. Однако в императорской России такого не могло произойти в силу разных причин – начиная от активного противодействия армейского командования до неприятия женщин в военной форме в солдатской среде и в обществе в целом.
Как свидетельствуют известные исторические факты, обычно женщины попадали в армейские ряды обманным способом, присвоив себе мужские фамилии и имена. Чаще всего это происходило в периоды войн, когда осуществлялся массовый призыв лиц мужского пола и отбор проводился менее внимательно. При этом формальные условия в работе воинских присутствий, включая медицинское освидетельствование, не всегда в полной мере соблюдались. Да и сложно это было сделать, когда по установленным нормам врач обязан был осматривать по 600 призывников в день.3 Простой подсчет показывает, что даже при непрерывной работе одного врача продолжительностью 10 часов в день на осмотр одного призывника остается всего 1 минута.
Однако, даже не проявив каким-либо образом свою принадлежность к женскому полу на осмотре в воинском присутствии, впоследствии это было весьма трудно скрыть в условиях пребывания в закрытых мужских коллективах. При получении в боевой обстановке военных травм или ранений такой обман неизбежно раскрывался. Дальнейшая военная судьба патриоток-самозванок оказывалась полностью в руках военного командования. Иногда, при благосклонном отношении начальства и при условии уже проявленных усердия и боевых отличий, они продолжали службу уже открыто, не опасаясь дальнейших разоблачений. Кстати, как правило, служили женщины-воины достойно. Многие из них были удостоены боевых наград, а некоторые стали Георгиевскими кавалерами.
Между правдой и вымыслом.
Долгие годы путь в армейские ряды под мужским именем оставался для доброволиц единственной возможностью, хотя и предполагал он изначальный обман военного начальства и сослуживцев. Рано или поздно, но такой обман обычно раскрывался. В боевых условиях это случалось чаще, поскольку любое, даже самое незначительное ранение, приводило к установлению истины.
Нарушители воинских порядков по решению командования отправлялись домой, как правило, не подвергаясь другим наказаниям. Случалось, что обман за время военной службы так и оставался тайной доброволицы. Так, в октябре 1898 года на имя императора Николая II поступило прошение от вдовы Георгиевского кавалера Брытова, якобы воевавшего под Севастополем в составе Грузинского гренадерского полка. Однако просила 77-летняя вдова, впавшая в крайнюю нужду, о выплате своей пенсии за заслуженные ею самой награды. В своем прошении она указала, что под мужским именем Александра Воинова она сама в течение 9 месяцев воевала в том же полку вместе с мужем. И воевала геройски, заслужив Знак отличия Военного ордена, несколько медалей и чин унтер-офицера.
Прошение было столь необычным, что по монаршей воле учинили целое дознание. Служба и награды гренадера Александра Воинова подтвердились. В публикации упоминается справка Капитула российских орденов, согласно которой унтер-офицер этого полка Александр Воинов был действительно награжден Знаком отличия Военного ордена IV степени за номером 5702.
Более того, выяснилось, что до рокового пожара в 1860-е годы, когда сгорели в огне все её награды и документы, она уже получала наградные пенсионные выплаты. И даже больше, чем её геройский муж. Но после смерти мужа она оказалась в бедственном материальном положении, что и заставило, поясняла Евгения Трофимовна, обратиться с прошением непосредственно к царю. Как утверждается в публикациях, пособие Брытовой как Георгиевскому кавалеру назначили, точнее, восстановили его выплату. А вот о дальнейшей её судьбе сведений не сохранилось.
Эта история, кочующая по страницам печатных изданий и электронным ресурсам на просторах интернета, вызывает определенные вопросы и порождает некоторые сомнения в достоверности излагаемых фактов и описываемых событий. Поскольку в подобных современных публикациях обычно не приводится ссылок на документы или воспоминания участников описываемых событий, то рискнем провести собственную реконструкцию того, как всё происходило, со ссылкой на рассказы самой Евгении Трофимовны Брытовой.
Достаточно подробно, хотя и вновь бездоказательно, о судьбе этой женщины было рассказано в марте 2014 года на сайте форума «Кавалеры-женщины на Первой мировой войне». Попробуем провести свое историческое расследование, опираясь на уже известные факты и сопоставляя исторические события и судьбы их участников. Судя по тому, что женщина рассказывала о своём участии в обороне Севастополя, речь шла о неудачной для России Крымской войне 1853—1856 годов.
Что настораживает в рассказах о жизни и участии в войне
Начнем с того, что упомянутый Грузинский гренадерский полк, в котором, с её слов, они служили вместе с мужем, воевал не в Крыму, а на Северном Кавказе и в Закавказье. Она упоминала о 9-ти месяцах службы в этом полку. Даже мужчине надо было себя настолько геройски проявить в боях, чтобы за столь небольшой для новобранца срок заслужить Знак отличия Военного ордена (ЗОВО) и медали. За какие боевые заслуги был вручен Знак отличия, сколько и какие медали конкретно ей были вручены – неизвестно. Не упоминала она и о специальной награде Российской империи в ознаменование окончания Крымской войны – серебряной медали «За защиту Севастополя». Эта медаль стала первой в российской истории наградой, учрежденной в ноябре 1855 года за оборону (защиту), а не взятие или военную победу. Медаль вручалась всем тем, кто в той или иной мере участвовал или способствовал защите Севастополя от врага. Награждались нижние чины, включая нестроевых, а также женщины, работавшие в госпиталях, жители города, участвовавшие в боях, и даже крепостные, бывшие слугами у офицеров осаждённого гарнизона. Медаль эта носилась на Георгиевской ленте, что также подчеркивало её особое значение. Всем военнослужащим вручалась бронзовая медаль «В память войны 1853—1856 гг.», причем участники получили медали из светлой бронзы.
А вот далее приводится, со слов Брытовой, и вовсе фантастическая история. Якобы она сообщила Мелитопольскому уездному воинскому начальнику, что она является дочерью самого имама Шамиля, которая приняла православие и вышла замуж за русского солдата. Попробуем сопоставить факты и события.
Народный герой Северного Кавказа и Закавказья имам Шамиль (1797 – 1871 гг.) стоял во главе Северо-Кавказского имамата и долгие годы воевал против Российской империи. Однако во время Крымской войны он не примкнул к туркам, а занял выжидательную позицию. Боевых действий против русских войск в этот период Шамиль не вёл, за исключением вторжения в Алазанскую долину. Этот набег не имел военных последствий и остался лишь боевым эпизодом тех лет. В августе 1859 года он сдался на милость императора Александра II на почётных условиях. В августе 1866 года принес присягу на верноподданность Российской империи. Спустя еще 3 года он был указом императора возведён в потомственное дворянство.
Проживал имам сначала в Калуге, а в декабре 1868 года переехал в Киев. В феврале следующего года получил разрешение императора Александра II на совершение паломничества в Мекку вместе с семьей. После хаджа Шамиль посетил город Медину в Саудовской Аравии. Там он скончался и был похоронен в феврале 1871 года.
Шамиль был 8 раз женат и имел 16 детей. В нашем случае интерес представляют только 2 дочери от его второй жены аварки Патимат, 1810 года рождения. С первой женой аваркой Хурият он прожил вместе всего 3 дня. Был ли у неё ребенок от Шамиля неизвестно, хотя теоретически такая ситуация возможна. Третья жена аварка Джавгарат была 1814 года рождения и просто не могла в 7 лет родить дочь, поскольку сама Е. Т. Брытова, судя по известным данным, родилась в 1821 году. В опубликованных биографических сведениях о Шамиле нет даже упоминаний о его дочери, принявшей православие.
Следующая, на наш взгляд, небылица в её рассказах заключается в том, что встать в солдатский строй защитников Севастополя вместе с мужем и под мужским именем ей, будто бы, разрешил лично император Николай I. Ни в момент её обращения к царю в 1898 году, ни позже этот факт не был подтвержден. Известно, что осада Севастополя продолжалась 11 месяцев – с октября 1854 по август 1855 годов. Одновременно продолжалась начавшаяся ещё в 1817 году Кавказская война, которая завершилась лишь в 1864 году. В осаждённом Севастополе император Николай I не был и встретиться там с Брытовой не мог. Он умер задолго до окончания Крымской войны – 18 февраля 1855 года в Петербурге.
Удивительно, но в рассказах Брытовой об участии в обороне Севастополя нет даже упоминаний об одной из первых сестёр милосердия Дарье Михайловой (в замужестве Хворостовой). Её под именем Даши Севастопольской знали все защитники города. Кстати, мужество и самоотверженность сестры милосердия была отмечена лишь двумя медалями, одной из которых была медаль «За защиту Севастополя». Только для Дарьи медаль была изготовлена в единственном экземпляре из золота.4 Сопоставляя разные факты, становится понятно, что Е. Т. Брытова не могла участвовать в обороне Севастополя, поэтому не знала многих деталей и общей ситуации в осаждённом городе.
Рассказывая о своей военной службе под мужским именем Александра Воинова, она упомянула, что со временем обман раскрылся. Её освидетельствовали военные медики в присутствии, как она упоминала, генерала Истомина. В то время одним из участков обороны Севастополя действительно руководил В. И. Истомин, но он был контр-адмиралом, а не генералом. Свой адмиральский чин Истомин получил за мужество и умелые действия в Синопском сражении, командуя линейным 120-пушечным парусным кораблем «Париж». С начала 1854 года Владимир Иванович руководил участком обороны под Севастополем. Его корабль стоял на рейде, а часть команды обслуживала созданную собственными силами береговую батарею «Парижская». Адмирал Истомин погиб 7 марта 1855 года.
К тому же, вряд ли бы адмирал решился на какие-либо медицинские освидетельствования, зная о якобы личном дозволении императора поступить этой женщине под мужским именем на военную службу в гренадерский полк. Да и сам полк, как мы выяснили, в это время воевал с турками и отличился в боях у селения Кюрюк-Дара, что в ту пору находилось в захваченной турецкими войсками части Армении.
Факт обмана при освидетельствовании подтвердился и Брыкову исключили из списков части. При этом заслуженную под чужим именем пенсию за награды, с её слов, она исправно получала до тех пор, пока пожар не уничтожил её наградные документы и сами награды. Факт назначения ей такой пенсионной выплаты вызывает сомнения и нуждается в документальной проверке на основе архивных данных.
Рассматривая всю эту сомнительную историю и сопоставляя факты с вымыслом, конечно же, надо сделать ссылку на весьма преклонный возраст Е. Т. Брытовой. В то время в 77 лет люди считались долгожителями. Возможно, что-то ей запомнилось из военного прошлого мужа. Некоторые фамилии и факты в её рассказах совпадают с реальностью. Но многое из её воспоминаний, да еще в чужом пересказе, вызывает сомнения в правдоподобности. Собственноручных её письменных воспоминаний не выявлено, поскольку, скорее всего, она была неграмотной. Не исключено, что эта запутанная цепочка несовпадающих событий и не подтвержденных фактов так и останется очередной нераскрытой тайной нашей истории.
История со спасенным знаменем Либавского полка
Другой случай относится к сомнительной во многих отношениях истории спасения сестрой милосердия Генриеттой Сорокиной памятного знамени 6-го Либавского пехотного полка. Вопросы возникают сразу даже при беглом изучении её биографии. Являясь шведкой по матери или по отцу (сведения различаются), получив при рождении имя Августы Карловны, она в 1914 году выходит замуж и почему-то изменяет свои имя и отчество. Так она становится Генриеттой Викторовной.
С началом войны муж уходит офицером на фронт и вскоре погибает. Она поступает в армию сестрой милосердия и оказывается в зоне боевых действий. Попав в окружение, получает ранение в ногу и попадает в немецкий плен. Подлечившись в немецком госпитале, Генриетта Викторовна непонятно каким образом оказывается на свободе и через Швецию возвращается в Россию. Она объяснила это её депортацией в Россию согласно Женевской конвенции.5
Само пребывание во вражеском плену в Российской империи позором не считалось. Да это и понятно. Ведь среди всех стран-участниц Первой мировой войны Россия по количеству попавших в плен офицеров и нижних чинов занимала первое место. В плену оказалось 2 млн. 417 тыс. человек. На втором месте была Австро-Венгрия, у которой в плен были взяты 2 млн. 200 тыс. военнослужащих. На третьем месте была Германия с 993 тыс. попавшими в плен. Всего же в плену побывало около 8 млн. человек из всех армий стран-участниц Первой мировой войны.6
Поэтому возвращавшаяся из германского плена сестра милосердия Сорокина, судя по всему, подозрений у окружающих не вызывала. Появившись в декабре 1914 года в Петрограде, она направляется в Трофейную комиссию при Военно-походной канцелярии императора. В солдатской шинели, в платке на голове и с костылем в руке Генриетта Сорокина пришла к начальнику канцелярии. К удивлению присутствовавших офицеров, под шинелью вокруг тела у неё было обмотано знамя Либавского полка.
А дальше был её рассказ о том, как смертельно раненный знаменосец передал ей полковой стяг с просьбой спасти знамя. В её повествовании правда смешалась с вымыслом, факты противоречили здравому смыслу, а неточности, путаница и откровенные ошибки порождали подозрения.
Из её рассказа следовало, что своё ранение она получила в конце августа 1914 года, находясь в составе армии генерала Ранненкампфа. Иными словами, в расположении 1-й армии. Чуть позже она назвала другое место своего ранения – у перевязочного пункта около населенного пункта Сольдау (другое название – Зольдау). Но оказалось, что это польское местечко на границе Германии располагалось на направлении наступления 2-й армии генерала Самсонова.
Даже при беглом взгляде на карту боевых действий конца августа 1914 года становится понятно, что эти территории разделены большим расстоянием, болотами, многочисленными озерами и лесами. Преодолеть все эти препятствия барышня Сорокина, тем более с ранением в ногу, просто не могла.
Далее, с её слов, раненую нашли немецкие санитары и отправили в госпиталь, где извлекли пулю из её ступни. Неправдоподобно прозвучало и то, что, находясь в немецком госпитале, она хранила знамя, обмотав вокруг своего тела.
Все эти грубые ошибки и несоответствия в её рассказе, а также недоумение по поводу чрезмерной доверчивости членов Трофейной комиссии достаточно подробно изложил капитан того самого Либавского полка Борис Данилович Сырцов в парижском издании «Военная быль».7
К тому же участник этого события Гейштор позже написал, что, когда он помогал Сорокиной перед уходом надеть шинель, случайно нащупал в её кармане оружие. Сёстрам милосердия оружие не полагалось.
О своей находке он доложил начальству и получил задание пригласить Генриетту Викторовну на ужин, чтобы в неформальной обстановке поподробнее расспросить её о деталях столь запутанной истории.
Сестра милосердия с пистолетом в кармане
Здесь дело уже приобрело конспирологическое направление и возникли подозрения в том, что, возможно, она имеет целью покушение на императора Николая II. Тем более, что она несколько раз уточняла, примет ли её царь лично. Немецкий след просматривался и в том, что до начала войны 6-й Либавский пехотный полк носил имя принца Фридриха-Леопольда Прусского. На прямой вопрос об оружии, сестра милосердия смутилась и сказала, что носит его для самообороны. При этом достала из кармана шинели и показала пистолет Браунинг 12-го калибра.
Обо всем, что удалось узнать, доложили начальнику Военно-походной канцелярии генералу князю Орлову для доклада царю. Николай II наградил сестру милосердия Сорокину Г. В. за спасение полкового знамени Георгиевскими крестами I и II степеней.8 Награды ей, со слов членов Трофейной комиссии, вручили в канцелярии, сообщив, что император её принять не сможет, поскольку он отбыл в действующую армию. По другим сведениям, она была награждена Георгиевскими медалями «За храбрость»: командованием армии 4 и 3 степенями, и императором – 1 и 2 степенями. На фотографии тех лет она изображена в одежде сестры милосердия и с четырьмя Георгиевскими медалями.
Либавский полк был переформирован в 1915 году. Ему было возвращено и памятное знамя, доставленное сестрой милосердия Сорокиной. Командир полка полковник Глобачев Н. И. не пострадал, а спустя короткое время стал генералом. Казалось бы, что за давностью лет здесь можно было бы поставить точку в нашем историческом расследовании.
Однако в наши дни появилась надежда, что эта запутанная история наконец-то прояснится. Дело в том, что объявился правнук Г. В. Сорокиной, позже ставшей по мужу Воронковой. Она пережила Великую Отечественную войну и умерла, по информации правнука, в Москве в мае 1950 года. Родственник активно включился в поисковую работу и, возможно, ему повезет больше в поисках истины.
Немало вопросов возникает при чтении книги «Яшка. Моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы», рассказывающей о судьбе и военной службе Георгиевского кавалера Бочкарёвой Марии Леонтьевны. Пик её популярности пришелся на 1917 год. Уже тогда её биография включала немало выдумок, полуправды и искаженных фактов в пересказах других людей. С годами ясности в её судьбе не прибавилось. Скорее наоборот. Далее мы попробуем разобраться и в этой, не менее запутанной, истории жизни и армейской службы известной фронтовички времен Первой мировой войны.
1
См.: Приказ по Военному Ведомству №560 от 19 октября 1916 г.
2
См.: Арефьев Б. В. Охотник. – М.: Русский путь, 2004.
3
См.: Устав «О всеобщей воинской повинности», статья 289/Составитель Бертгольдт Г. В. – М.: Типография «Ломоносов», 1914.
4
Балязин В., Соболева Н., Кузнецов А., Казакевич А. Символы, святыни и награды Российской державы. Ч.2. – http://maxima-library.org/knigi/genre/b/285827?format=read.
5
Имеется в виду «Конвенция об улучшении во время сухопутной войны участи раненных и больных воинов». Принята 23.06.1906 г. в Женеве. – Прим. М.С.
6
Военнопленные Первой мировой войны. Википедия.
7
Сырцов Борис. Либавское знамя. По поводу статьи К. М. Гейштора/Военная быль, 1969, №95. С.28—30.
8
Шевяков Т. Н. Потери знамен и штандартов Российской Императорской армии в 1799 – 1917 г.г. – http://testlib.meta.ua/book/227751/read/.