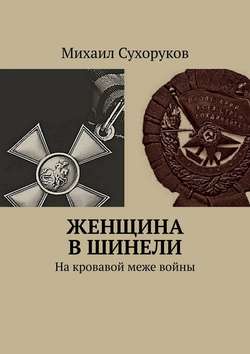Читать книгу Женщина в шинели. На кровавой меже войны - Михаил Сухоруков - Страница 5
Глава 1. «Женская команда смерти» Марии Бочкарёвой
1.3. Военная дорога доброволицы «Яшки»
ОглавлениеДаже более века спустя жизнь и судьба Марии Леонтьевны Бочкарёвой вызывают интерес у наших современников. И многие хотели бы узнать больше правдивых сведений о ней, поскольку прижизненно созданные социальные мифы о женщине-доброволице не только не были позже развеяны, а, скорее, еще более искажены. Советская историография рисовала её образ в негативных тонах и наделяла враждебными намерениями по отношению к власти большевиков, что, общем то, соответствовало истинному положению дел.
Продолжим по крупицам восстанавливать историческую правду, для чего попробуем разобраться в делах, поступках и мотивах простой сибирячки Марии Бочкарёвой, с соизволения самого императора Николая II занявшей под своим именем место в армейском строю.
Социальные мифы создаются в определённые исторические периоды и с вполне определёнными целями. Это идеологические продукты для современников. Они плохо, а, порой, и разрушительно сказываются на историческом сознании потомков. Примером такой мифологизации может служить непростая судьба женщины – Георгиевского кавалера, возглавившей в 1917 году «Первую женскую военную команду смерти Марии Бочкарёвой». Перелистаем некоторые страницы её жизни и, спустя столетие, попробуем отделить правду от вымыслов.
Четыре судьбоносных периода в жизни Марии Бочкарёвой
Условно её жизнь можно разделить на несколько переломных периодов, когда, в силу разных причин и обстоятельств, в её судьбе всё кардинально изменялось. Первые 25 лет жизни запомнились Марии крайней бедностью и семейными кошмарами. Постоянно пьяный отец издевался над семьёй. С ранних лет она пошла на заработки. Чтобы избавиться от нищеты, рано вышла замуж. Муж тоже оказался пьяницей и домашним деспотом. Бежала от него в другой город к своей старшей сестре. В поисках лучшей жизни судьба свела её с молодым евреем Яковом Буком, который оказался уголовным преступником. Оставаясь официально замужней, жила с иноверцем «в грехе». Добровольно пошла за ним в ссылку, где попала под гласный надзор полиции. Сожитель продолжал вести разгульно-преступный образ жизни. Его издевательства и попытки даже убить её, вынудили Марию бежать из ссыльного поселения в Якутии в Томск к родителям. Что и говорить, тяжелое начало жизни на самом «дне» общества.
Следующий период, условно обозначим его как солдатский, включает её поступление на военную службу и участие в Первой мировой войне. В нарушение всех законов и установлений Российской империи в ноябре 1914 года по воле Его Величества и счастливого Случая, её прошение на имя императора о приеме в армию солдатом было рассмотрено положительно. Редкий случай, когда женщина под своим именем по воле самого царя была определена рядовой в строевую часть. Затем до начала мая 1917 года она добросовестно служила и храбро воевала в составе 28-го Полоцкого пехотного полка. Была награждена Георгиевским крестом IV степени и тремя медалями. Получила чин младшего унтер-офицера. Видя вокруг полный развал царской армии, собралась на побывку домой с мыслями о завершении своей военной службы.
Однако случайная встреча в начале мая 1917 года на фронте с председателем Временного комитета Государственной думы М. В. Родзянко определила её дальнейшую судьбу. Узнав, что она собралась на побывку, известный политик пригласил младшего унтер-офицера навестить его в столице и пообещал ей свою помощь. Начался короткий, но, пожалуй, самый яркий период в жизни женщины-воина, о которой до этого мало кто знал за пределами Полоцкого полка. Ей приписали инициативу в формировании женской военной команды смерти. Тогда же журналисты, по моде тех лет, назвали это подразделение из женщин-доброволиц «женским батальоном смерти» её имени. В начале июля 1917 года женская команда смерти под руководством прапорщика Бочкарёвой приняла свой первый и последний бой, в ходе которого она была фактически разгромлена. Позже команда была пополнена за счет доброволиц Московского женского батальона смерти, однако сведений об их участии в новых боях с германцами выявить не удалось. По неподтвержденным сведениям, они несли охранно-вспомогательную службу в прифронтовой полосе.
После октября 1917 года в её судьбе произошли новые кардинальные перемены и начался заключительный период жизни женщины, дослужившейся до чина поручика. Команда смерти была расформирована. Сама Бочкарёва оказалась не у дел. С её слов, ездила с каким-то поручением на Юг к генералу Корнилову. Затем в апреле – августе 1918 года последовал еще более загадочный, с признаками конспирологии вояж в Америку и в Британию. Известные суфражистки тех стран помогли ей попасть на приемы к американскому президенту и английскому королю. С военно-политической точки зрения эти встречи, кроме личных впечатлений и эмоций, никакого практического результата не имели. В августе того же года она на корабле британских интервентов вернулась в Архангельск. Здесь Марию Леонтьевну ожидали неприятные сюрпризы. Командующий войсками Северной области генерал В. Марушевский приказал поручику Бочкарёвой снять офицерскую форму. Конфликт уладили англичане. Пробыв, опять же не у дел, почти год на Севере России, она отправилась в Томск, где доживали свой век её престарелые родители. Здесь она предприняла свою последнюю попытку стать полезной белому движению. Получив от адмирала Колчака приказ сформировать санитарный отряд своего имени, она его выполнила в короткий срок. Но дни Омского правителя были уже сочтены. Адмирал и его штаб спешно отступали на восток, бросив отряд Бочкарёвой на произвол судьбы. Ей пришлось вернуться в Томск и ждать своей участи. Этот выбор она сделала сама и вполне осознано. В начале 1920 года её арестовали как офицера армии Колчака и 15 мая приговорили к расстрелу.
Первоисточник искажений и неточностей
Главным биографическим источником на протяжении многих десятилетий считается книга воспоминаний Марии Бочкарёвой «Яшка. Моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы»13 (далее – «Яшка»), которая, якобы, основана на подлинных фактах её жизни. На наш взгляд, это не совсем так. Поясним свою точку зрения по этому вопросу.
Воспоминания М. Л. Бочкарёвой были написаны по причине её неграмотности не ею самой, хотя книга иногда и называется её автобиографией. Впервые она была издана в 1919 году за рубежом на английском языке. Правильнее, на наш взгляд, было бы отнести эту книгу к разделу прижизненной литературной записи её рассказов о своей жизни и военной судьбе. Выполнил эту работу И. Дон Левин – бывший подданный российской короны, ставший в эмиграции американским журналистом. Сама фигура этого корреспондента даже в те годы оценивалась неоднозначно. Да и их встреча на американской земле летом 1918 года вряд ли была случайной. Наверняка, этот бывший подданный Российской империи, не был единственным русскоговорящим журналистом, способным записать и перевести на английский язык устные воспоминания Марии. Но выбор пал именно на этого молодого еврея российского происхождения, уже успевшего выпустить свою книгу о революции в России. Его критический подход в оценках деятельности большевиков служил определённой рекомендацией в антисоветски настроенных кругах американского общества.
Справедливости ради, не будем критиковать Марию Леонтьевну за допущенные от её имени в тексте книги «Яшка» исторические неточности и фактические искажения. Ведь этот текст писала не она. Не имела она и возможности даже просто прочитать или отредактировать запись, сделанную с её слов. Во-первых, она была неграмотна, чтобы излагать свои мысли письменно на литературном русском языке. Во-вторых, даже если бы она умела читать и писать по-русски, то это тоже бы ей не помогло, поскольку Дон Левин сразу же записывал её рассказы в своем переводе на английский язык. А английского языка она не знала тем более.
Поэтому говорить о высокой степени достоверности излагаемых в книге событий и фактов по воспоминаниям известной женщины -доброволицы не приходится. К тому же книга «Яшка», лишь в 2001 году дошедшая до российского читателя, фактически дважды подверглась переводу: прямому с русского на английский язык при записи рассказа Марии и обратному – с английского на русский язык при выпуске книги для российских читателей. Уже одно это значительно снижает полноту и точность изложения воспоминаний поручика Бочкарёвой, поскольку известно, что при переводе с одного языка на другой неизбежно возникают лингвистические неточности, смысловые искажения в результате субъективного понимания текста самим переводчиком.
К тому же, многое в жизни и судьбе Марии было связано с военной службой в русской армии. В её рассказах было немало такого, что совсем не просто было даже понять не служившему в императорской армии Исааку Дон Левину, не говоря уже о том, что и всё не понятое им надо было тоже перевести на английский язык. Скорее всего, расчёт делался на то, что книга была адресована только западному, притом англоязычному читателю, для которого эти промахи и ошибки в тексте незаметны. Но, когда воспоминания Бочкарёвой стали доступны российскому читателю, допущенные искажения и текстовые неточности начали привлекать внимание.
Сомнительное авторство и неточности в названии
Имя и фамилия Бочкарёвой указаны на обложке, что предполагает её авторство. Однако И. Дон Левин в предисловии называет себя в качестве автора книги. «Для Бочкарёвой и меня, как автора, – написал он, – главным в повествовании было точное воспроизведение фактов».14 А вот именно с достоверностью приводимых фактов и описываемых событий тех лет как раз и возникают вопросы. Причем начиная с названия книги, где указано, что Мария – изгнанница (англ. – exile). В других версиях это слово переводится как ссыльная. В некоторых названиях книги на английском языке вместо слова «офицер» (officer) указано слово «солдат» (soldier). В нескольких зарубежных изданиях изменен порядок слов в названии книги. В подзаголовке отдельных изданий книг «Яшка» написано, что это автобиография (autobiography), хотя известно, что книгу Бочкарёва сама не писала.
Многое в тексте книги противоречит историческим фактам и даже собственным воспоминаниям женщины-офицера. Например, точно известно, что Мария Леонтьевна не была ни изгнанницей, ни ссыльной. Изгнание из страны, равно как и ссылка – это разные виды уголовного наказания.
В первом случае предполагается насильственное выдворение человека за пределы государства под страхом тюремного заключения или даже смертной казни. Обычно это наказание сопряжено с лишением гражданства и права на возвращение в страну. Это очень серьезная санкция, применяемая по решению суда. Во втором случае, опять же по решению суда, ограничивается право свободного перемещения по стране. Для места отбывания наказания избирается, как правило, удаленная территория в пределах своего государства.
Как известно, до её ареста в начале 1920 года в отношении Бочкарёвой никаких действий со стороны советских судебных властей не предпринималось. Она добровольно, хотя и с помощью зарубежных дипломатов, покинула Советскую Россию в апреле 1918 года и свободно вернулась в обозе британских интервентов в августе того же года в Северную область России. Осенью 1919 года она перебралась в Томск, где тогда проживали её родители.
Историки ошибаются тоже
Досадные ошибки закрались и в предисловие к русскому изданию книги «Яшка». Но истину, на наш взгляд, восстановить возможно и нужно. Например, в предисловии С. Дрокова указано, что капитан Шагал руководил прикомандированными к женскому батальону инструкторами.15 При этом историком приводится ссылка на статью «Женский батальон» в журнале «Военная быль»16, в которой сам капитан Шагал пишет, что он был командиром 3-й роты совершенно другого женского формирования – Первого Петроградского женского батальона.
Этот женский батальон был сформирован уже после того, как команда смерти Бочкарёвой отправилась на фронт. Более того, Павел Васильевич Шагал был помощником командира женского батальона штабс-капитана лейб-гвардии Кексгольмского полка А. В. Лоскова и участвовал 24 октября 1917 года в военном параде на Дворцовой площади вместе со своим батальоном.
До сих пор появляются публикации, в которых исторически неверно указывается, что ППЖБ и есть "женский батальон смерти" Бочкарёвой. Вся эта путаница усугубляется тем, что среди приведённых в книге «Яшка» фотоиллюстраций более десятка фотографий отражают жизнь, военный быт и боевую подготовку именно Первого Петроградского женского батальона во главе со штабс-капитаном Лосковым, а не команды смерти Бочкарёвой. При этом еще две фотографии вообще относятся к Московскому женскому батальону смерти.
Так что читать воспоминания Марии Бочкарёвой надо внимательно, с карандашом в руке и уточняя достоверность приводимых в книге дат, имен и событий.
Всплеск патриотизма или личный мотив?
Конечно, с исторической точностью восстановить подлинные мотивы её стремления попасть в военное время солдатом на фронт спустя целое столетие вряд ли возможно. Остается только вновь обратиться к воспоминаниям Марии и протоколам её допросов в ВЧК, где она упоминала о том, что подвигло её на ратную службу. Ну, и по возможности, сопоставляя и анализируя иные источники, попытаться установить истинные истоки её последующих поступков и действий. Так зачем же молодая женщина так стремилась встать под армейские знамена?
В её воспоминаниях есть разные варианты объяснения того, что привело молодую женщину на фронт. Приводятся витиеватые литературные изыски под стать перу маститого писателя-романиста. «Мое сердце рвалось туда – в кипящий котел войны, – читаем на очередной странице книги «Яшка», – чтобы принять крещение в огне и закалиться в лаве. Мною овладел дух самопожертвования. Моя страна звала меня. И какая-то непреодолимая внутренняя сила толкала вперед…».17 Здесь среди красивостей слов и фигур речи, о которых вряд ли имела хоть какое-то представление неграмотная сибирячка из социальных низов общества, в глаза бросается фраза про её дух самопожертвования. Бежать от сожителя из-за риска быть им убитой ради того, чтобы принести свою молодую жизнь в жертву на войне? Логика и здравый смысл здесь бессильны.
В книге «Яшка» приведены личные цели и мотивы этого судьбоносного для неё решения. Приведем их дословно в изложении от имени самой М. Бочкарёвой в качестве базовых мотивов в её стремлении попасть на военную службу. «И действительно, мысль спасти Яшу… полностью овладела моим воображением. Но можно ли сделать это иначе, чем отличившись на войне, написать прошение царю в его защиту?
Так вновь и вновь мысли мои возвращались к войне. Я попросила знакомого написать от моего имени письмо Яше. Извинившись, что так неожиданно покидаю его, я сообщила о своем намерении отправиться в Томск, чтобы записаться в армию солдатом, уйти на фронт, проявить себя там, а потом обратиться к царю с прошением о помиловании, дабы государь позволил нам вернуться к мирной жизни в Сретенске. Таков был мой план…».18
Кратко размышления Марии можно изложить в виде определенной цепочки названных ею целей и последующих действий.
Основной мотив и главная цель – спасти сожителя Якова Бука от тяжести и лишений ссыльной жизни, добившись его освобождения от отбытия наказания. Промежуточные цели на пути к конечному результату в её представлении выглядели следующим образом:
1) Поступить на военную службу.
2) Попасть на фронт.
3) Отличиться на войне.
4) Обратиться к царю с прошением о помиловании Якова.
5) Вернуться вместе с ним к мирной жизни в Сретинске, где жили родители Бука.
И, как видим, в её, во многом фантазийном, «плане» не нашлось места самопожертвованию и её неизбежной гибели на войне за Веру, Царя и Отечество. Все складно изложено с расчетом на благополучный исход и счастливую мирную жизнь в понравившемся ей забайкальском городке Сретинске.
Из приведённых, в изложении Дона Левина, откровений самой главной героини книги «Яшка» видно, что изначально решение Марии Бочкарёвой было внутренне мотивировано, носило сугубо личный, бытовой характер и никоим образом не было проявлением её патриотического или верноподданнического порыва.
Вместе с тем, Мария впоследствии, в зависимости от жизненных обстоятельств и конкретной ситуации, неоднократно изменяла свой рассказ о том, что же на самом деле послужило мотивом для молодой сибирячки, чтобы подвергнуть себя не только тяготам и лишениям военной службы, но и риску погибнуть на войне. Менялись времена, изменялись и формулировки её мотивов поступления на военную службу. Иногда, в зависимости от ситуации, она сводила объяснение своего желания пойти на фронт до понятной для простых людей причины. Например, в солдатской среде и простым обывателям она часто говорила, что пошла на войну, чтобы отомстить германцам за смерть мужа-солдата на фронте.19 Этот выдуманный предлог она сочла подходящим объяснением, хотя на самом деле её муж Афанасий Бочкарёв живым вернулся с войны.
Затем в 1920 году на допросах в ВЧК она вновь заявила следователю: «На войну в 1914 году я пошла из чувства патриотизма и желала умереть за родину».20 Так что истинные, глубинные мотивы её поступления в армейские ряды до конца непонятны. Вполне возможно, что они переплелись и трансформировались в соответствии с определенными периодами её жизни и военной службы или адаптировались под определенные жизненные ситуации.
Воспоминания о военной службе содержат неточности
Очень много в книге неточностей и грубых ошибок в описании того, что связано с военной службой Бочкарёвой. Удивительно, но в её памяти то ли не сохранились, то ли она намерено не назвала ни одного имени других солдат – товарищей по учебной команде. А ведь они были вместе в казарме и на занятиях почти 3 месяца. Сама назвавшись «Яшкой», других казарменных обращений она не привела. Или другой пример, когда в книге дважды упоминается о её представлении за боевые отличия к ордену Св. Георгия IV степени. Она не могла не знать, что до 1917 года данный орден был высшей военной наградой для офицерских чинов. Нижние чины до наградных реформ Временного правительства к такой награде не представлялись и этого ордена не удостаивались. Очевидно, что речь могла идти только о солдатском знаке отличия «Георгиевский крест».
Ничего, кроме улыбки у служившего в армии читателя, не вызывает описание прощания Бочкарёвой с сослуживцами по 28-му Полоцкому пехотному полку. Представить себе полк, построенный для проводов младшего унтер-офицера в шеренгу, невозможно. Ведь в таком строю стоящие рядом на одной линии около 4 тыс. человек личного состава полка растянутся примерно на 2 километра!
Или чего стоит упоминание о том, как во время застолья командир полка нарисовал ей на погонах карандашом еще одну полоску, и тем самым, по мнению Бочкарёвой, произвел её в старшие унтер-офицеры. Однако до 21 июня 1917 года она продолжала носить погоны младшего унтер-офицера 28 Полоцкого пехотного полка. И подобных досадных неточностей на страницах книги немало. Где и что приукрасила сама Мария Леонтьевна, где её не так понял не служивший в русской армии выходец из белорусского Мозыря Дон Левин теперь уже не разобрать. Но следует признать, что книга «Яшка» стала первоисточником исторических искажений, неточностей в приводимых фактах и описываемых событиях.
По волнам и бездорожью памяти
Дон Левин особо подчеркивал, что «…один из природных талантов Бочкарёвой – блестящая память»21, но именно она не раз подводила рассказчицу. Другой сложностью для неё была полная неграмотность, в силу чего она всю информацию воспринимала «на слух», не имея возможности её прочитать. Это часто проявлялось у Марии Леонтьевны, когда она рассказывала о себе, своей судьбе и круге общения на фронте и в революционном Петрограде.
Она путалась в датах, ошибалась в названиях мест прошедших событий и в фамилиях их участников. Поэтому в книге «Яшка» дамы высшего света герцогиня Лейхтенберг и княгиня Кекуатова в её воспоминаниях становятся, сохраняя свои титулы, соответственно Лихтенберг и Кикутова.
В числе участников тех или иных событий называются люди, которые по объективным причинам не могли в них участвовать. Например, на вручении формированию доброволиц знамени «Первая женская военная команда смерти Марии Бочкарёвой», вопреки воспоминаниям Марии Леонтьевны и кинофильму «БатальонЪ», военный и морской министр Керенский не присутствовал. Более того, его вообще не было в Петрограде, поскольку с 14 июня и до конца июня месяца он находился в поездках по фронтам. Об этом свидетельствуют журналы заседаний Временного правительства.22 По этой причине не мог он, как утверждает Бочкарёва в своих воспоминаниях, лично прикреплять ей офицерские погоны.
Более того, по воспоминаниям главнокомандующего войсками Петроградского военного округа генерала Половцова, сам Керенский был категорически против её производства в прапорщики.23
13
Бочкарева Мария. Яшка: Моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы. В записи Исаака Дон Левина. – М.: Воениздат, 2001.
14
Бочкарёва Мария. Указ. соч. – С.36.
15
См. Бочкарёва Мария. Указ. соч. – С.17.
16
Шагал, капитан. Женский батальон/Военная быль – Париж: 1969, Январь №95.
17
Бочкарёва Мария. Указ. соч. – С.110.
18
Бочкарёва Мария. Указ. соч. – С.112
19
См.: Бочкарёва Мария. Указ. соч. – С.320.
20
Протоколы допросов организатора Петроградского женского батальона смерти/Отечественные архивы, 1994. №1. – с.59.
21
Бочкарёва Мария. Указ. соч. – С.34.
22
Журналы заседаний Временного правительства. В 4-х тт. – Т.2. Май-июнь 1917 г. —М. РОСПЭН, 2002. – С.252—366.
23
См.: Половцов П. А. Дни затмения: записки главнокомандующего войсками Петроградского военного округа генерала Половцова П. А. в 1917 году. – Париж: Книгоизд-во Возрождение, 1927. – С.88—89.