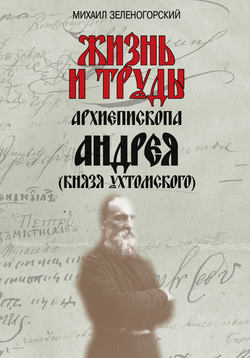Читать книгу Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского) - Михаил Зеленогорский - Страница 2
От автора
ОглавлениеНесколько слов о том, как появилась эта книга. После службы в армии я в 1975 году вернулся к семье – в домик, окруженный садом и соснами, в подмосковном поселке у станции Ухтомская – с Казанского вокзала, Рязанское направление. Станция названа была в память о расстрелянном в первую русскую революцию машинисте Алексее Ухтомском. Может быть, это стало знаком того, что именно там мне пришлось заняться восстановлением жизненного пути иерарха русской православной церкви архиепископа Андрея, в миру – князя Ухтомского.
А началось так. На нашей, почти деревенской, улице отключили воду в домах и пришлось идти с ведром к колонке, благо она была напротив. А из соседнего дома, тоже с ведром, вышел бородатый мужчина. Волосы на голове были завязаны в косу. Сосед проявил интерес к моей бороде – она была длиннее и гуще. Так и познакомились.
Старообрядческий священник Белокриницкого согласия о. Евгений Бобков. По образованию – юрист. Его покойный к тому времени отец тоже был юристом, но возглавлял древлеправославную общину при Рогожском кладбище в Москве.
Стали общаться. У них с матушкой Ириной – из волжских старообрядцев кержаков – было к тому времени шестеро или семеро мальчишек. Мечтали о девочке – и позже она народилась. Десятой по счету. В описываемое время отец Евгений был удален госорганами из Москвы и служил настоятелем старообрядческой церкви в белорусском городе Гомеле – только там советская власть дозволила трудиться человеку, разоблачившему завербованного Комитетом госбезопасности священнослужителя на Рогожском кладбище[1]. Но продолжал быть ближайшим сотрудником Архиепископа Московского и проявлял неуемную активность в деле сохранения и развития староверия. Одновременно занимался наукой, в частности – историей русской духовной музыки: был знаком, сотрудничал и почитался крупнейшими специалистами в области русской культуры. А однажды принес мне постановление руководства РПЦ от 1971 года о «снятии клятв» со старообрядцев и попросил разобраться в истории вопроса и высказать мнение в виде небольшого исследования. А дабы я не испытывал недостатка в необходимых материалах и литературе, отвел меня на соседнюю улицу к Михаилу Ивановичу Чуванову – тогда 85-летнему старцу, председателю Преображенской старообрядческой общины федосеевцев и обладателю одной из крупнейших частных библиотек в более чем 20 тысяч книг. Журналы, газеты, рукописи, картины и рисунки. Михаил Иванович начинал еще юношей в типографии Рябушинских и всю жизнь проработал в издательствах; бережно хранил рукописи и гранки сгинувших литераторов: у него позже прочел авторские странички Цветаевой, Клюева, Павла Васильева. Опытный конспиратор и лагерный сиделец 1930 х вскоре побывал у меня дома, подарил трехтомную «Историю еврейского народа» Семена Дубнова, и в последующее десятилетие я стал постоянным читателем тамошних книг и рукописей, собеседником и иногда соавтором хозяина дома: так мы с ним написали «Введение в историю Древлеправославной Староверческой Церкви», которую он опубликовал петитом в беспоповском «рижском календаре»[2], в главную редакцию которого входил. Дело в том, что советская власть разрешала православным конфессиям издавать календари объемом не более 80 страниц, но для 90-летнего Михаила Ивановича глава Совета по делам религий Куроедов сделал исключение: позволял разово увеличивать их до 100 страниц, и мы мелко-мелко смогли уместить очерки по истории старообрядчества. Кстати, у того же Куроедова Михал Иванович добился принципиального разрешения на издание с 1984 года журнала «Древлеправославный вестник», два номера которого я под присмотром Е.А. Бобкова заранее подготовил (первый – в июле 1983-го). Проект не осуществился по причине внутренних разборок среди беспоповских согласий. По просьбе Михаила Ивановича я периодически описывал хранящиеся в доме исторические документы – это помогло мне научиться работе с источниками, умению краткого и грамотного описания их.
Статья «К вопросу о клятвах» была мною написана и, по всей видимости, одобрена, так как была пущена по рукам. Были и другие статьи и заметки, в том числе опубликованные. Их явно читали и потому в дальнейшем меня по-доброму принимали и в старообрядческой среде в Каунасе, Риге и в лесах Горной Шории, и в кабинетах питерского Пушкинского дома.
Алексей Дорофеевич Бобков
о. Евгений Бобков
Михаил Иванович Чуванов
А отец Евгений объявился с новым предложением: принес «показать» пожелтевшую рукопись в школьной тетрадке 1920-х и две почтовые открытки того же времени. Это была вторая часть воспоминаний епископа Андрея, князя Ухтомского и его краткие послания духовным детям – все, что имелось на то время у о. Евгения. Но он жаждал знать все об этом выдающемся иерархе русской Православной церкви, искренне стремившемся к единению со старообрядчеством.
Е.А. Бобков был обременен многочисленными общественными и семейными обязанностями, но, разбудив мой исследовательский интерес, разумеется, не оставил мою работу без внимания: всячески вдохновлял, советовал, подсказывал и даже провел несколько уроков по чтению на старославянском языке. Познакомил меня с ответственным секретарем «Журнала Московской патриархии» и главным редактором «Богословских трудов» Евгением Алексеевичем Кармановым. Тоже наш сосед… Здесь мне был подарен самоучитель иврита, вывезенный хозяином из паломнического путешествия по Святой Земле Израиля в 1963 году. Е.А. Карманов – кандидат богословия, великий библиограф и знаток прошлой истории православия на Руси и нынешнего его состояния в Советском Союзе, был одним из важнейших кураторов моей работы. А его супруга Надя – наборщиком и корректором.
Евгений Алексеевич и Надежда Кармановы
Евгений Алексеевич снабдил меня машинописной копией многотомного справочника митрополита Куйбышевского Мануила (Лемешевского), где тот собрал и обработал сведения о русских православных иерархах конца XIX – середины XX веков, предоставил другие справочники и энциклопедии, многое объяснил и прояснил, а однажды молча передал небольшую подборку машинописных копий рукописей-текстов, где упоминался епископ Андрей: «Вышел на днях на обеденный перерыв, а на столе – вот это». Время было такое – источники лишний раз не упоминались.
* * *
Началась работа. Сначала газеты и журналы: церковные, антирелигиозные и светские. Книги и воспоминания о революции и Гражданской войне, многочисленные публикации типа журнала «Безбожник», брошюры и агитки. Шоком было знакомство с газеткой Казанской ЧК «Красный террор» с призывом к убийствам и списком уже расстрелянных. Потекли материалы самиздата и «тамиздата».
Параллельно шли поиски документов, но не в государственных недоступных архивах. Ведь были и архивы частные. И один из них находился у меня дома: архив известного в 1960–1970 годы писателя Марка Поповского, который он передал мне перед своей эмиграцией в 1977 году. Среди прочего он готовил книгу «Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга», впервые изданную уже за пределами СССР. А врач и будущий епископ Лука работал в Ташкенте в то время, когда там находился в ссылке епископ Андрей. Я достал папки с материалами к будущей книге: есть свидетельства о том, что еп. Андрей не только постриг юного врача в монахи, но и рекомендовал возвести его в епископское достоинство. А еще там было несколько адресов и телефонов духовных дочерей епископа-хирурга. Стал обзванивать – почти все безрезультатно, кроме одного случая: пожилая дама, откликнувшаяся на мой звонок, лишь мельком видала епископа Андрея, но преподнесла мне телефон своей подруги, которая много лет была почитательницей и духовной дочерью уфимского владыки. Звали ее Ромодановская Ольга Петровна, и жила она в Уфе. Она ответила на мой звонок и (после долгих уговоров) согласилась меня принять. Я отправился в Башкирию. Помню только, что видел реку Белую и памятник Салавату Юлаеву: самое «открыточное» место, ни на что больше времени не хватило. И был долгий разговор с гостеприимной хозяйкой, рассказавшей, что лишь несколько раз присутствовала на службе и потом беседовала с епископом. Говорила, что большего человека она в жизни не встречала. Но никаких документов не сохранилось – вот только фотография иконы, «которую он мне подарил». Все.
Переночевал я в ее квартирке и ни с чем отправился восвояси – домой в Москву. А через день звонок из Уфы: вы у меня тапочки забыли, а это знак, что вернетесь – так что приезжайте за тапочками и еще кое-что покажу. Во второй раз я выехал из Уфы, бережно прижимая портфель с 65-ю письмами и открытками владыки, его фото и фото пяти девушек-подружек («жены-мироносицы – смеялся мой покойный муж», вспомнила Ольга Петровна).
Окрыленный, я отправился в город Куйбышев: митрополит Мануил умер в 1965 году, а на кафедре находился его ученик и преемник архиепископ Иоанн (Снычев) – он же был и наследник архива. Владыки не оказалось в городе, но в епархиальном управлении дали адрес его дачи. Я и нагрянул: без предупреждения и без рекомендаций: «Здравствуйте, я пишу историю жизни Вашего расстрелянного большевиками коллеги. Дайте материалы!»
Дачная беседка, солнышко, птички поют, чай пьем: православный епископ в цивильном и чернобородый еврей. Очень мягкий отказ – ничего нет специфического, все материалы использованы в справочнике Мануила.
Я тоже был мягок и вкрадчив, но настойчив – рассказал владыке историю с тапочками. Он «испугался» моего второго прибытия, растаял, ушел в дом и тут же вынес нечто книжное в самодельном переплете. Это было более сотни страниц перепечатанных на машинке материалов касательно епископа Андрея – но вторая копия. Подарил и пожелал успеха (благословил явного иноверца).
Епископ Иоанн впоследствии в сане митрополита Ленинградского/Санкт-Петербургского прославился как духовный глава российских юдофобов. Памятуя о нашем общении в конце 1970-х, – не верю, думаю, что окружение престарелого иерарха действовало его именем.
Большинство документов приходилось перепечатывать самому – на воспетой А. Галичем портативной пишущей машинке «Эрика», подаренной мне родителями – они же были и единственными (частичными) «спонсорами проекта». По нынешней терминологии. Но родители абсолютно не подозревали, чем я занимаюсь: удовлетворялись любованием статьями, которые я изредка публиковал в газетах и журналах.
Продолжая поиски материалов, я приступил к написанию текста и первые куски относил к своему близкому человеку – Борису Алексеевичу Филиппову. Рожден в Порхове, закончил Псковский пединститут, аспирантура и защита диссертации по германскому фашизму в Ленинграде[3]. У нас на втором курсе в Рязанском пединституте стал преподавать всеобщую историю – и мы подружились. Особенно после того, как меня выгнали с пятого курса за иудейскую религиозную свадьбу – хупу. Он и был одним из главных способствовавших моему первоначальному образованию как историка: принудил читать монографии, прочесть весь «Новый мир» шестидесятых годов, доставал билеты на Таганку. У него я писал курсовую и в процессе написания работы о Первом Интернационале, прочтя гору литературы, научился сравнивать различные идеологии – марксизм, анархизм, немецкий социализм и российский большевизм. Хорошая школа. Борис Алексеевич был и первым читателем глав об епископе Андрее, а затем и всей рукописи.
Борис Алексеевич Филиппов
В начале олимпийского 1980 года я передал свою рукопись Наде Кармановой, которая и перепечатала ее в количестве 7 экземпляров. Бывший мой школьный ученик Боря Якеменко (в 1970-х я одно время преподавал в люберецких школах) сделал 7 комплектов фотографий и даже переплел – получилась как бы книга. И она пошла по рукам.
Прочли ее Борис Андреевич Успенский – филолог, знаменитый семиотик; Борис Ремович Лопухов – ведущий специалист по итальянскому фашизму; живший в Америке богослов и историк церкви о. Иоанн Мейендорф; друзья и их друзья. Е.А. Бобков запустил как в свои старообрядческие круги, так и в среду научную.
Неожиданно позвонил некто: на английском языке попросил о встрече. Встретились в парке в Сокольниках. Оказывается – ученый из США, приехал на две недели работать в архиве, меннонит. Привез письмо от священника Виктора Потапова с радиостанции «Голос Америки»: тот просил разрешения зачитать куски «книги» в эфире. Я – конспиратор – дал согласие устно. Американец-меннонит – не конспиратор – любезно предложил довести меня до метро: «Мой друг, военный атташе американского посольства, одолжил мне машину». Я поежился и как мог более вежливо отказался.
Позвонил (явно по наводке Е.А. Карманова) сотрудник Издательского отдела Московского патриархата Валентин Арсентьевич Никитин – предложил поместить один экземпляр рукописи в их библиотеку: «Мы у Вас берем как бы для подготовки к публикации, платим гонорар; но печатать пока не будем». Взяли, поместили, заплатили «гонорар». Рукопись, подписанная фамилией «Зеленогорский», стала доступна читающим массам.
о. Георгий Эдельштейн
Дальнейшая история рукописи такова. В 1989 году я помог образоваться первому крупному частному издательству «Терра» и, вероятно, в благодарность хозяин издательства – Сергей Кондратов – решил издать книгу о епископе Андрее. Я уже жил тогда в Израиле и кто-то из друзей передал в «Терру» один экземпляр. Быстро набрали, может быть, даже сделали легкую корректуру. Фамилия автора – «М. Зеленогорский», посвящение «Б.А.» – зимой 1991 года советская власть еще числилась в живых. Гранки, разумеется, мне никто не показывал. В мягкой обложке на желтой бумаге, тиражом 50 тыс. экземпляров – книга пошла в народ и довольно быстро даже по тем временам разошлась. Через год мне отыскали несколько экземпляров только в подмосковном сельском книжном магазине.
С осени 1992 года я руководил Еврейским университетом в Москве. У нас преподавали академики и профессора, моим заместителем был доктор исторических наук, а я не остепененный. «Мои» проректоры Аркадий Ковельман и Софа Шуровская решили превратить начальника в кандидата наук – чтоб не стыдно было за ректора. Софа взяла на себя логистику в оформлении документов, Аркадий нашел научного руководителя – проректора (тогда; с тех пор он стал ректором) РГГУ проф. Ефима Пивовара, который дал немало ценных советов по защите диссертации.
Я честно сдал экзамены академического минимума – особенно запомнилась долгая и обстоятельная беседа на английском языке о старообрядцах и ситуации на Ближнем Востоке с очаровательной дамой – зав. кафедрой английского языка РГГУ. Мой давнишний редактор и друг Владимир Владимирович Нехотин помог составить вполне по советским меркам проходимый реферат[4] по книге (отдельного текста этой диссертации не существует).
И со второй попытки я защитился. Диплом мне выдали как иностранцу и назвали «Ph.D».
* * *
По прошествии многих лет оказалось, что новое поколение староверов, исследователей, занимающихся историей России, просто читающих – хотят нового издания: расширенного и дополненного. И мне, конечно, хотелось что-то добавить, исправить, «раскрыть псевдонимы». Обнаружились новые материалы – прежде всего первая часть воспоминаний владыки и выборочные протоколы его допросов.
Осенью 2008 года мы вместе с В.В. Нехотиным, фактическим соавтором новой версии книги, съездили в Рыбинск, посетили мемориальный дом семьи Ухтомских, а директор местного музейного комплекса предоставил изобразительные материалы для нового варианта книги, – которая теперь более чем вдвое выросла в объеме относительно первого издания, составленного еще в конце 1970-х.
Всем вышеперечисленным – моя большая благодарность.
1
См.: Вестник Русского христианского движения (Париж). 1973. № 108-110.
2
Старообрядческий церковный календарь на 1986 г. (Рига). С. 48–57.
3
Он и сам недавно опубликовал нечто вроде небольших мемуаров под названием «О моих учителях». См.: Филиппов Б.А. Очерки по истории России: ХХ век. М., 2009. С 649–656.
4
Гринберг, Михаил Львович. Жизнь и деятельность архиепископа Андрея (князя Ухтомского): (Из истории рус. православ. церкви XX в.): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к. ист. н.: (07.00.02) / Моск. гос. открытый пед. ун-т. – М.,1995. – 27 с.