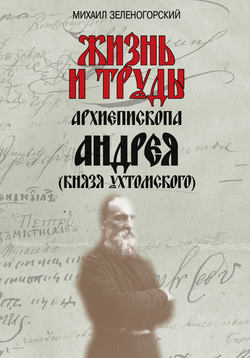Читать книгу Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского) - Михаил Зеленогорский - Страница 5
Жизнь и деятельность архиепископа Андрея (князя Ухтомского)
Глава вторая
На путях обновления церковно-общественной жизни
1
ОглавлениеВ церковно-общественной жизни русского православия синодального периода епископ Андрей не находил почти ни одного светлого пятна; «элемент Божественный в Церкви вечно жив и не может быть нарушен», писал он, но «нельзя не согласиться, что человеческая сторона церковной жизни извращена до самой последней степени»[28]. Если Церковь еще жива, считал он, то лишь благодаря отдельным личностям из клира и мирян, посвятившим свою жизнь религиозному подвигу служения христианским идеалам. В середине XIX века – это славянофилы, в первую очередь А. Хомяков и И. Аксаков, на рубеже XIX–XX веков – Иоанн Кронштадтский. Среди современников владыка выделял также архиепископа Антония (Храповицкого), был большим почитателем архимандрита Кирилла (Васильева) – настоятеля Воскресенского монастыря близ станции Любань Новгородской епархии. Важное место в деле сохранения духовности православия еп. Андрей уделял единоверию.
Церковь же как единый организм, по мнению владыки, не выполняла своих функций, не была на это способна в силу почти абсолютного разложения ее организации, от высшего управления до последнего клирика, и полного отсутствия активности основной единицы церковно-общественной жизни – прихода.
Источник подобного положения церковной организации владыка Андрей видел в реформаторской деятельности Петра, учредившего в качестве одного из ведомств государственной власти «высшее церковное управление», ставшее прежде всего органом подчинения деятельности Церкви интересам светского государственного строительства. Суть петровских реформ в этой сфере сводилась прежде всего к учреждению Святейшего Синода, права и обязанности которого были определены в Духовном регламенте, составленном архиепископом Феофаном (Прокоповичем) и изданном 25 января 1721 года. Институт патриаршества в России упразднялся, и устанавливалась власть синодального управления. Аргументы в пользу новой системы видели в том, что: а) истина гораздо лучше может быть узнана несколькими лицами, чем одним; б) определение и решение власти соборной авторитетнее, чем власти единоличной; в) простой народ, в случае конфликта государственной власти с церковной, может «по невежеству» стать на сторону последней, и т.п. В качестве представителя государственной власти в Синоде назначался «из офицеров» обер-прокурор, в обязанности которого входили функции контроля и предварительной подготовки решений Синода, «применяясь к инструкции генерал-прокурора Сената»[29]. Должность обер-прокурора была учреждена 11 мая 1722 года. Первоначально его компетенция скромно определялась как наблюдательная, но очень скоро обер-прокурор превратился в непосредственного руководителя Ведомства православного исповедания, что и было постепенно зафиксировано в законодательных актах первой трети XIX века. Обер-прокурору были предоставлены министерские права, он докладывал непосредственно царю и заведовал канцелярией, хозяйственным управлением и прочими вспомогательными синодскими учреждениями. Он же сосредоточил в своих руках права на назначение должностных лиц, распределение пенсий, пособий и наград по духовно-учебному ведомству.
Один из наиболее авторитетных русских православных иерархов начала XX века архиепископ Антоний (Храповицкий) – он получил наибольшее количество голосов при выборе кандидата на патриарший престол в 1917 году – неоднократно высказывался о бедственных последствиях петровских реформ, считая, что «государственное управление во времена Петра и после, целями чисто внешней культуры и государственной централизации, сузило, обезличило и даже наполовину затмило религиозное сознание и религиозную жизнь православного народа»[30]. Обер-прокуроров архиепископ Антоний называл «естественными органами порабощения Церкви и ее подчинения светским интересам жизни»[31]. Отмену в начале XVIII века патриаршества он определил как «прямое и ничем не извинительное отступление от основных канонов всей Христовой Церкви»[32]. Уже на Соборе 1917–1918 годов архиеп. Антоний высказался еще более определенно и резко: назвав царя Петра «великим разорителем Церкви», утверждал, что «с его времени наш церковный строй получил уклон к протестантству»[33].
Глубокая характеристика петровских реформ принадлежит православному мыслителю профессору С.Н. Булгакову, выступившему с докладом о правовом положении Церкви в государстве на Соборе 11 февраля 1918 года: «с Петра же 1-го, когда в отношения между Церковью и Государством вторглась протестантская стихия, в силу которой церковь есть только часть государства, наравне с другими частями государственного механизма… в связи с этим наше церковное самосознание потерпело ущерб, исказилось, приняло уродливый характер, навлекший упрек в цезарепапизме. В основах нашей церковной жизни цезарепапизма нет. Но сами формы церковного управления (подчинение светской власти и синодальный провинциализм, как противоречие вселенскому сознанию Православной Церкви) не соответствуют, противны духу Церкви»[34].
Брат еп. Андрея Алексей предпочитал называть «приверженцев синодального исповедания» не цезаропапистами, а «мелхитами»: «нельзя более точно их обозначить, если уж приискивать что-либо соответственное им в древней церковной истории. Мелхиты упоминаются в церковных книгах, в Кормчей, как особые еретики. Каптерев доказывает, что это никто иной, а именно та часть православных, которая… опиралась всецело на Византийский Двор, действовала поддержкою Двора и в воззрениях своих имела критерием то, как смотрит император и двор[35]. Мне кажется, что все это и составляет самую характерную черту синодских, что у них основной критерий: чего требует и как смотрит начальство. Не эти ли мотивчики звучали, когда восточные милостынесобиратели и российские Илларионы Рязанские, Питиримы Нижегородские поднимали проклятие, огонь и меч против древлего благочестия? Не та же ли музыка звучала, когда Феодосий Яновский, Феофан Прокопович и т.п. обожествляли «Майестат [Величество (императорское)]» и продавали Христа? Да не та же ли музыка играет и сейчас, не ей ли принадлежит главная «партия», когда звездоносные монополисты Благодати из синодских заседателей решают какое-нибудь дело? Слово «мелхит» производится от еврейского «мелх» – царь»[36].
Всеобъемлющая зависимость духовенства от Ведомства православного исповедания и иных государственных органов калечила духовную жизнь, плодила клир, жаждущий должностей, кормящийся от правительства и стоящий в рабской зависимости от него. Клирики были вынуждены искать дополнительные доходы, позволяющие обеспечить приемлемый уровень благосостояния, что, разумеется, отвлекало их от непосредственных обязанностей руководства паствой. Не менее важно, что общение пастырей со своими прихожанами вне храма резко ограничивалось. Священник не жил одной судьбой с паствой, был чужд ее насущным проблемам. Он оказался в подчинении у полицейского исправника и в материальной зависимости от помещика. Всякие попытки обустройства общественной жизни прихода вызывали сопротивление властей, как огня боявшихся любой формы организации народной массы.
Так оценивал состояние церковно-общественной жизни православия еп. Андрей и, чтобы еще более выпукло показать трагичность положения, обращался к примеру старообрядчества: «Почему, действительно, наши раскольники несравненно устойчивее и сильнее в культурном отношении? Именно потому, что раскольники живут приходскою самоопределяющейся общиною, а наша деревня влачит свое существование только по распоряжению начальства. Раскольническую общину объединяет любимый храм или часовня, а нашу православную деревню объединяла до последнего времени казенная винная лавка, а теперь[37], кажется, объединяющим началом остался один местный полицейский стражник»[38].
Сознание царящего зла и невозможности противодействия ему гасило активность духовенства, порождало безразличие к нуждам паствы и не могло не влечь за собой равнодушия к выполнению своих прямых богослужебных обязанностей. Служба сокращалась, комкалась, теряла свою притягательную и воспитывающую силу. Происходило «обезверивание» (выражение еп. Андрея) прихожан и падение авторитета клира. Духовная жизнь в рамках официального православия не удовлетворяла верующих, и тем самым усиливалась тяга к старообрядчеству и сектантству.
В речи, произнесенной в Уфимском земском собрании 19 октября 1915 года (вследствие цензурного запрета она была напечатана лишь после революции), владыка Андрей характеризовал печальные последствия подобного положения: «и сверху, и снизу с одинаковой энергией изгонялись все наиболее энергичные, яркие духовные мыслители и деятели… И стали у нас пророчествовать лжепророки, а на Моисеевом седалище хотя и нет книжников и фарисеев, но зато сидят молчальники, далекие от жизни и не понимающие жизни, а потому и не могущие быть руководителями ее»[39].
Таким образом, по мнению епископа, к полному развалу церковно-общественной жизни привели, с одной стороны, цезарепапизм, подчинивший церковь интересам государственной внутренней политики, а с другой – инертность духовенства и отсутствие приходской деятельности.
Однако еп. Андрей не ограничивался критикой современного положения Церкви: владыка выдвинул позитивную программу восстановления ее жизнедеятельности. Его альтернатива заключается в возрождении прихода для охраны в народе нравственных идеалов, церковно-религиозного быта и подъема материального уровня жизни[40]. И хотя в определенные периоды своей деятельности в этом направлении владыка пытался заинтересовать и привлечь к ней государственную власть, все его обращения к властям предержащим убеждают, что еп. Андрей стремился лишь нейтрализовать администрацию, обеспечить ее невмешательство в процесс, успех которого зависит исключительно от активности и самостоятельности духовенства и прихожан.
Излагая точку зрения еп. Андрея на сущность приходской жизни, приведем мнение по той же проблеме архиеп. Антония (Храповицкого), важное еще и потому, что жизненные пути обоих иерархов были тесно связаны на протяжении многих лет.
Владыка Антоний – также выходец из среды родовитого дворянства, рано посвятивший свою жизнь пастырскому служению. Он был ректором МДА именно в те годы, когда там обучался будущий еп. Андрей. В 1895 году оба они оказались в Казани, а накануне архимандрит Антоний совершил монашеский постриг Александра Ухтомского: нам приходилось держать в руках книгу «Чин пострижения» с надписью «Многолюбимому отцу Андрею с пожеланием исполнить нерушимо обеты. Архим. Антоний. 1895 г. ХII, 2»; эту книгу владыка Андрей хранил вплоть до конца 1920-х.
В 1897 году иеромонах Андрей становится архимандритом, а архимандрит Антоний – епископом Чебоксарским, затем в 1899 году – епископом Чистопольским, первым викарием Казанской епархии. С 1900 года еп. Антоний возглавлял уфимскую кафедру, на которой в дальнейшем со всей полнотой развернется деятельность владыки Андрея.
Особо следует отметить тот факт, что еп. Антоний был духовником еп. Андрея и, несомненно, оказывал сильное влияние на своего духовного сына.
Многие высказанные ими идеи идентичны – однако их взгляды на многое диаметрально противоположны. Прежде всего это заметно по воззрениям двоих архиереев на проблему петровской реформы.
Свою точку зрения владыка Антоний высказал в статье, вышедшей в 1909 году, а затем переизданной отдельной брошюрой «Восстановление прихода» (1916). Здесь утверждается, что «с учреждением приходского парламента священник перестает быть духовным отцом и пастырем прихожан, а превращается в общественного приказчика, которому прихожанин «поручает» исполнить требу, а приходское собрание и приходской совет его муштрует, учитывает, отчитывает и по-хозяйски грозит расчетом, т.е. изгнанием»; и далее: «К чему сводится приходская реформа? К внесению в жизнь прихода того начала, которое введено у нас в высшее государственное управление, – начала чисто парламентского, правового»[41]. Более того, владыка Антоний уверен, что в жизнь прихода этим будут привнесены формы, методы и идеи классовой борьбы. Его страшит активность масс, которые он представляет корыстолюбивыми, скандальными и погрязшими во множестве пороков, прежде всего в пьянстве. Поэтому еп. Антоний выступает за другой путь оживления прихода: «иное участие в приходской жизни – участие подвигом-трудом, послушанием, молитвой, делами сострадания и взаимного нравственного поучения, где нет борьбы, честолюбий и корыстолюбий»[42]. С другой стороны, и пастырь должен жестко и в соответствии с канонами поступать с ослушниками: молоко в среду – на 2 года без причастия, супружеская измена – на 15 лет, нагрубил священнику – отлучение от Пресвятой Троицы, проклятие и на Иудино место, как предписывает Номоканон[43].
Под последним подписался бы и владыка Андрей, однако он не считал возможным ограничиваться лишь призывами к ужесточению церковной дисциплины. Он призывал к объединению усилий клира и мирян, взаимной активизации их работы, освящаемой идеей православия. Владыка не страшился расширения участия прихожан, ибо имел перед собой пример старообрядчества, где активность мирян сочеталась с непререкаемой властью архиерея. По мнению еп. Андрея, неизмеримо должна повыситься ответственность священника за ведение церковной службы. Литургия должна быть поставлена на высоту ее предназначения. Из храма должно быть вытеснено концертное пение, в нем непременно обязана присутствовать проповедь. Пастве надлежит быть непосредственной участницей литургии, для чего священник обязан всячески способствовать повышению духовной грамотности прихожан посредством активной работы церковно-приходской школы, распространения Св. Писания, молитвенников и иной духовной литературы: «В нашем отчуждении от мирян – наша беспомощность, а в нашем единении с ними – вся наша сила и весь залог нашего возрождения»[44].
Епископ Андрей требует решительного вмешательства клира в общественную жизнь, более того, священник обязан вносить духовное начало во все сферы деятельности прихода, в состав которого должны входить школа, больница, богадельня, библиотека, ремесленное училище и другие учреждения. Именно священник является связующим звеном с внешним (за пределами прихода) миром и возглавляет приходские отделения общественных организаций государственного масштаба. Тем самым вся социальная жизнь протекает под контролем и с благословения настоятеля. Само собой разумеется, что обладание подобной духовной властью требует полной самоотдачи и высоконравственной жизни.
Священник должен пользоваться абсолютным доверием прихожан, а посему, делает вывод еп. Андрей, приход должен обладать правом выбора и смещения своего пастыря. Этому моменту владыка придавал большое значение, разработав подробные рекомендации по акту избрания. В апреле 1916 года были опубликованы «Правила для избрания настоятелей храмов Божиих Уфимской епархии», в предисловии к которым владыка Андрей писал: «Решаюсь просить вашей, братие, помощи в выборе и отыскании таких добрых пастырей, таких рабов Господних, которые были бы приветливы ко всем, учительны, незлобивы, наставляли бы всех с кротостью, чтобы были образцом в слове, в жизни, в любви, в вере, в чистоте»[45]. С июля 1916 года владыка ввел эти правила повсеместно на территории своей епархии.
В трудах еп. Андрея прослеживается четкий план возрождения приходской жизни; позже под его руководством были разработаны и обновленные уставы прихода и объединений духовенства[46].
В сфере общегосударственного устройства приход рисовался как самостоятельная юридическая единица, пользующаяся широкой автономией во всем, что касается ее внутренней жизни. Воссоздание православного прихода, по мнению владыки, даст объективные шансы грядущему русскому возрождению: «1) усиление влияния Церкви (не духовенства) на всю народную жизнь; 2) полное внутреннее обновление духовенства, усиление нравственного авторитета духовенства; 3) народ, объединенный в приходские организации и получивший нравственные силы от Церкви, скоро определит все вредные на его жизнь влияния и вытолкнет их из своей жизни…; 5) у народа будут собственные средства, которыми он будет располагать и для дел благотворения и просвещения во всех его видах»[47]. Владыка идет даже дальше и рисует картину человеческого общежития в виде союза православных и иноверческих приходов, объединенных вокруг своих храмов.
Анализируя церковно-общественную концепцию еп. Андрея в целом, трудно не увидеть в ней проект практического применения идеологических построений классического русского славянофильства (прежде всего А.С. Хомякова и братьев Аксаковых), но с более ярко выраженной теократической тенденцией.
28
К верующим сынам Церкви // Уфимские епархиальные ведомости (далее – УЕВ). 1915. №17. С. 725.
29
Полный православный богословский энциклопедический словарь. Том II. СПб., [1913; репринт – М., 1992]. Ст. 2023.
30
Антоний (Храповицкий), архиеп. Заявление в VI отделе Предсоборного присутствия 19 мая 1906 г. о свободе вероисповеданий. Почаев, 1906. С. 4.
31
Восстановление патриаршества. Почаев, 1912. С. 4.
32
Там же. С. 6.
33
Антоний (Храповицкий), архиеп. Выступление на Соборе по вопросу о патриаршестве // Священный Собор Православной российской Церкви 1917–1918 гг. Деяния (далее – Деяния). Кн. II. Вып. 1–2. С. 289.
34
Булгаков С.Н. О правовом положении Церкви в государстве // Деяния. Кн. IV. Вып. 1. Пг., 1918. С. 11.
35
Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и его противники. Изд. 2-е. Сергиев Посад, 1913. С. 81 и след.
36
Ухтомский А.А. Доминанта души. С. 346–347.
37
С началом Первой мировой войны в стране был введен «сухой закон».
38
Речь Уфимского Преосвященного Андрея, произнесенная в Уфимском земском собрании 19 октября 1915 г. // Заволжский летописец (далее – ЗЛ). 1917. №15. С. 410.
39
Речь Уфимского Преосвященного Андрея… // ЗЛ. 1917. № 15. С. 409.
40
О церковно-приходской жизни (Речь к членам Уфимского епархиального съезда духовенства 1916 г.) // УЕВ. 1916. №9. С. 633.
41
Антоний (Храповицкий), архиеп. Восстановление прихода. Харьков, 1916. С. 2, 3.
42
Там же. С. 10.
43
Антоний (Храповицкий), архиеп. Восстановление прихода. С. 10.
44
О церковно-приходской жизни // УЕВ. 1916. №9. С. 635.
45
О Господе возлюбленной пастве уфимской // УЕВ. 1916. №7. С. 218.
46
Проект Устава православных приходов в Уфимской епархии // УЕВ. 1917. №9–10. Приложение 2-е. С. 2–10; Проект Устава Союза Уфимского духовенства нравственной и материальной взаимопомощи // УЕВ. 1917. №11. С. 274–279.
47
О церковно-приходской жизни // УЕВ. 1916. №9. С. 635.