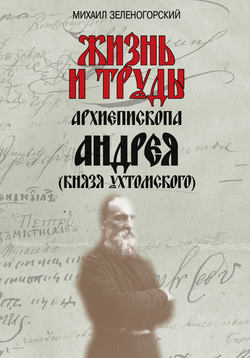Читать книгу Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского) - Михаил Зеленогорский - Страница 6
Жизнь и деятельность архиепископа Андрея (князя Ухтомского)
Глава вторая
На путях обновления церковно-общественной жизни
2
ОглавлениеВ эпоху Московской Руси проблема взаимоотношений Церкви и государства решалась через идею «усвоения государственной властью священной миссии… Церковь сама шла навстречу государству, чтобы внести в него благодатную силу освящения»[48]. Так, например, когда в конце XIV века князь Дмитрий Донской вступил в конфликт с Церковью в вопросе о митрополичьей кафедре, православное сознание Руси определило его поведение как поход «противу судбам Божиим»: самоволию князя противостояло соборное мнение клира как выразителя общественных чаяний[49]. Напротив, патриарх Никон, пытавшийся в середине XVII века усилить, вопреки традиции и по типу римского католицизма, теократические тенденции русского православия, вызвал ответную реакцию светских властей, что в итоге привело к значительной подчиненности церковной организации интересам государственного аппарата. Однако прежние идеалы Московской Руси были сохранены старообрядцами, а затем, через славянофилов, вновь овладели русской религиозной мыслью рубежа XIX–XX веков.
Еп. Андрей в своих работах весьма критически оценивал последствия реформаторской деятельности царя Петра и весь обер-прокурорский период управления русской Церковью, что говорит о его разочаровании в способности российского государства содействовать возрождению церковной жизни. Но русская Церковь существует в рамках российской государственности, и еп. Андрей стремился определить свое отношение к самодержавию. Из его высказываний можно заключить, что владыка мечтал о такой политической ситуации, когда в управлении страной глава государства опирается на ответственные круги общества.
Проявлением гражданского мужества несомненно были многочисленные резкие выступления владыки против маразмирующего окружения царя, объективно ведущего страну к гибели. Еп. Андрей публично сожалел о том, что общественное мнение страны пренебрегает церковными вопросами, в то время как на монополию над православием претендуют черносотенные круги, «своими речами только унижая Церковь в стремлении поставить ее в самую полную зависимость от власти государственной»[50].
Большие надежды владыка Андрей возлагал на земство, а позднее, когда Россия вступила в полосу испытаний, вызванных мировой войной, он видел союзника в Государственной Думе, которая обрела голос накануне катастрофы. Еп. Андрей прямо призывал царя опереться на ответственные силы страны, в противном случае предрекая ему судьбу библейского Ровоама, спутавшего самодержавие с самовластием[51].
Попытки как правой, так и левой печати обвинить епископа в заигрывании с верховной властью не выдерживают критики. Например, «Московские ведомости», ссылаясь на книгу б. иеромонаха Илиодора (Труфанова) «Святой черт», обвиняли владыку в сотрудничестве с Распутиным: «Епископ уфимский Андрей, до 1908 года друг и приятель Гришки Распутина, которого он называл святым старцем и которого нежно целовал в голову, – епископ Андрей, женскому антуражу которого выразил свое неодобрение даже Гришка Распутин (см.: «Святой черт» Илиодора Труфанова, стр. 47), самовольно… вступает в сношение с главами старообрядческой лжеиерархии, трактует с ними вопрос о соединении старообрядцев с церковью…». Между тем в печатном тексте состоящих в основном из домыслов записок Илиодора вообще нет явных упоминаний еп. Андрея[52].
А.С. Пругавин в своем антираспутинском памфлете (первое издание появилось в феврале 1916 года под отвлекающим заглавием «Старец Леонтий Егорович и его поклонницы» и было конфисковано военной цензурой) называет владыку одним из немногих людей, выступавших против Распутина[53]. А вот свидетельство французского посла М. Палеолога: «два духовных сановника, никогда не соглашавшихся мириться с Распутиным, из числа наиболее уважаемых представителей русского епископата: преосвященный Владимир, архиеп. Пензенский[54], и преосвященный Андрей, еп. Уфимский»[55]. В мае 1917 года газеты сообщали, что председатель Временного комитета Государственной думы М.В. Родзянко «горячо отстаивал кандидатуру епископа Андрея, с именем которого связаны надежды на решение наболевшего вопроса русской церковной жизни – на реформу прихода. Епископ Андрей, как отметил М.В. Родзянко, был одним из тех немногих смелых пастырей, которые подняли свой голос против распутинской скверны»[56].
Еще менее состоятельными подобные упреки выглядят, если принять во внимание всю систему взглядов владыки. Так, в своем «Слове в день священного Коронования» 14 мая 1916 года еп. Андрей протестует против постановки «самодержавия» во главе известной уваровской триады и прямо указывает на притчу Соломона: «Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою (25, 5)»[57]. Подобные высказывания в тот период приравнивались к государственной измене, и бывший директор Департамента полиции вспоминал, что царское окружение было готово расправиться с епископом Андреем, но опасалось реакции общественного мнения[58].
Более детальный экскурс в историю взаимоотношений еп. Андрея с властями лишний раз подтверждает вышеизложенное. Владыка был последовательным сторонником свободы вероисповедания – и хотя это убеждение уживалось в нем с твердой уверенностью в необходимости поддержания политического приоритета православия над другими религиями, еп. Андрей, несмотря на многочисленные нападки, резко отвергал полицейское вмешательство государства в межрелигиозные конфликты: «К свободе вероисповеданий мы и должны стремиться, помня, что вся истина – только во святой Церкви»[59]. Разумеется, никто и не должен ждать ни беспристрастия, ни даже равномерного освещения различных доктрин от епископа.
Существовал и иной аспект разногласий. В то время как государственная идея российского самодержавия видела в императоре официального главу Церкви (особенно со времен Павла), который при короновании присваивал себе прерогативы духовного лица, владыка Андрей открыто говорит о примате Церкви в общественной и государственной жизни, в качестве идеала представляя претворение государства в Церковь. Хотя последняя идея была открыто высказана лишь летом 1917 года, то есть после свержения самодержавия, для себя владыка формально поставил и явно сформулировал ее много раньше.
48
Загадки епископа Андрея // Вперед (Уфа). 1917. №15. С. 46.
49
Прохоров Г.М. Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Л., 1978. С. 191.
50
Речь Уфимского Преосвященного Андрея… в Уфимском земском собрании 19 октября 1915 г. // ЗЛ. 1917. №15. С. 414–415.
51
О самодержании «Благочестивейшего» (Слово в день коронования Их Императорских Величеств 14 мая 1916 г.) // УЕВ. 1916. №10. С. 335.
52
Еп. Андрей прямо упоминается только в авторизованной машинописи «Святого черта», предназначавшейся для сдачи в типографию Рябушинских (см.: Знатнов А.В. Юродивый всея Руси, или Последняя надежда дома Романовых // НГ-Религии. 3 сентября 2008 г.). Еще будучи архимандритом, владыка познакомился с Распутиным в Казани в 1905 г. То т несколько раз останавливался на ночь в его казанской квартире и по рекомендации еп. Андрея был принят в Петербурге его младшим братом, который рассказывал своим ученицам, что «Распутин, «пока не вошел в силу», часто приходил к нему ночевать и пытался втереться в царский дворец через него и Эспера Эсперовича. Про самого Распутина Алексей Алексеевич говорил: “Умный был мужик, но нахал и наглец исключительный. И глаза у него были пронзительные; видимо, и гипнотизировать он умел. Да что вы думаете, между нашими отцами церкви мало было гипнотизеров? Да хоть тот же Иоанн Кронштадтский!”» (Ухтомский А.А. Доминанта души. С. 467). В 1908 г. Распутин предложил еп. Андрею стать царским духовником вместо смещенного им еп. Феофана (Быстрова, 1873–1943), но владыка категорически отказался. Отношения между ними расстроились и в 1910 г. полностью прекратились. Вскоре после этого, в 1911 г., последовал перевод еп. Андрея из Казани в Сухум, для него совершенно неожиданный: «Я только из газет узнал о своем удалении из Казани, и никто не объяснил мне, за что меня оторвали от моей духовной семьи… А теперь – я оказываюсь в Абхазии, я послан к тому стаду, которое меня и по имени даже не знает» (Прощание православных казанцев с преосвященным Андреем, бывшим епископом Мамадышским, викарием Казанским, а ныне епископом Сухумским. Казань, 1911. С. 8). См. также: Слово Церкви (далее – СЦ). 1915. №25. С. 573–574. Записанное А.С. Пругавиным «Сообщение епископа Андрея Уфимского 5 марта 1918 г.», посвященное истории взаимоотношений владыки и Распутина, полностью опубликовано в составе статьи А.В. Знатнова «Юродивый всея Руси, или Последняя надежда дома Романовых».
53
Пругавин А.С. Старец Григорий Распутин и его поклонницы / Предисловие и подготовка текста П.С. Кабытова. Самара, 1993. С. 9.
54
В будущем – скандально знаменитый обновленец.
55
Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М.–Пг., 1923. С. 334.
56
Выборы митрополита // Новое время. 25 мая 1917 г. (№ 14785). С. 5.
57
О самодержании «Благочестивейшего» // УЕВ. 1916. №10. С. 336.
58
Падение царского режима. По материалам Чрезвычайной комиссии Временного правительства. Т. 4. Л., 1926. С. 289.
59
Еще раз о так называемой «свободе совести». Письмо II // УЕВ. 1916. №6. С. 206.