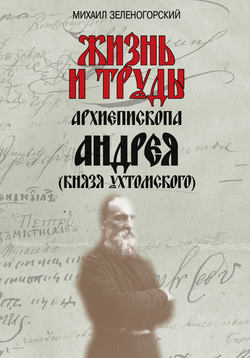Читать книгу Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского) - Михаил Зеленогорский - Страница 9
Жизнь и деятельность архиепископа Андрея (князя Ухтомского)
Глава третья
Церковь и государство. Новые условия
ОглавлениеРеволюция не стала для еп. Андрея неожиданностью. О невозможности дальнейшего существования царского режима в том виде, в каком он явил себя в XX веке, владыка писал задолго до 1917 года. В духе славянофильского учения он оценивал царскую власть не как привилегию на господство, а как исполнение обязанностей и тягот управления, возложенных на династию Романовых русским народом. Однако режим не сумел удержаться на высоте поставленных перед ним задач, погряз в беспринципности и безнравственности: «Самодержавие русских царей выродилось сначала в самовластие, а потом в явное своевластие, превосходившее все вероятия»[100]. Непонимание экономических и политических интересов страны, игнорирование духовных запросов русского общества, падение авторитета двора вызвали, по мнению владыки, бурю революции и гибель деспотизма.
Идея православия, лежавшая в основе знаменитой уваровской формулы, оказалась оттесненной на задний план и потому не смогла исполнить своей миссии духовного и нравственного воспитания народа. Произошла полная дискредитация самих понятий Церкви и клира. Приходское духовенство превратилось в требоисправителей, а высшие иерархи – в государственных чиновников, недоступных ни мирянам, ни низшему клиру. Роскошные выезды архиереев в сопровождении полицейского исправника в близлежащие от епархиального центра приходы не могли удовлетворить религиозные запросы масс, отдаленные приходы часто вообще не подозревали о существовании архиереев. Результатом, подводит итог еп. Андрей, стало массовое обезверивание православного народа, которое отразилось в разгуле анархии и росте популярности крайних партий. Авторитет клира, лишенный поддержки полицейских мер, оказался дутым. Более того, враждебность к старому режиму распространилось и на саму Церковь как составную часть ненавистной государственной машины.
Показательно, что в своем «Апокалипсисе нашего времени» В.В. Розанов видит в «Андрее Уфимском» вообще единственного («Да и всё») в Церкви искреннего носителя тех убеждений, о которых после Февраля заговорило вдруг большинство духовенства: «и стали вопиять, глаголать и сочинять, что “Церковь Христова и всегда была, в сущности, социалистической”, и что особенно она уж никогда не была монархической, а вот только Петр Великий “принудил нас лгать” … Попам лишь непонятно, что Церковь разбилась еще ужаснее, чем царство»[101].
Еп. Андрей, приветствуя Февральскую революцию как акт ликвидации всеохватывающего давления самодержавия на церковную жизнь, призвал в первую очередь к ее обновлению и возрождению, тем самым ставя в вину самой Церкви факт ее разложения. Вновь актуализируется главный лозунг деятельности владыки – активизация церковно-общественной работы на уровне православного прихода, что должно стать основой строительства новой России. Обновление Церкви с привнесением через это нравственных и духовных начал в революционный процесс – такова для еп. Андрея альтернатива лозунгам смерти и разрушения. Владыка не верит в способность людей, ставших во главе революционной власти, придать верное направление строительству новой жизни, так как и психология их взращена в порочных условиях общества, лишенного нравственных начал, и сами новые вожди формулируют свои идеи, игнорируя нравственные принципы веры. Поэтому владыка и призывает воздерживаться от скоропалительных решений и действий: «Главное, только дайте себе твердое обещание не делать никому зла, даже словом никого не оскорбить»[102].
4 марта 1917 года владыка отправляется в Петроград, чтобы лично увидеть рождение нового строя, затем едет в Двинск и Ригу, в прифронтовую полосу, служит и проповедует в войсках. Общее настроение народной массы производит на него удручающее впечатление: владыку страшит всеобщее обезверивание и озлобление. Углубление революции ведет к царству анархии, предупреждает еп. Андрей, а возглавившее ее безответственные элементы, выдвигая благородные и многообещающие лозунги, способны повести за собой политически неграмотные массы. Революция, взломав хрупкие препоны внешней мощи власти, вскрыла язвы российской жизни, ее духовную опустошенность и отсутствие нравственных начал. На фоне подобной оценки событий владыка вновь напоминает, что социальную революцию необходимо начинать с человеческой личности, с ее нравственного воспитания в рамках возрожденного прихода (а инородцев – на началах монотеистических религий).
При этом еп. Андрей не отрицает и необходимости создания в стране благоприятной общеполитической обстановки, которая будет способствовать свободной деятельности людей на ниве духовного строительства. Церковь, убежден владыка, должна быть безусловно освобождена от опеки государственного аппарата; в то же время недопустимо понимать отделение Церкви от государства как ограничение нравственного воздействия православия на все стороны общественной жизни. Поэтому еп. Андрей поначалу активно включается в работу верховных органов новой церковной власти.
100
Государственная Дума и Св. Синод // ЗЛ. 1916. №1. С. 138.
101
Розанов В.В. Рассыпанное царство // Розанов В.В. Собрание сочинений. [Т. 12]. М., 2000. С. 6. (Упоминания вл. Андрея в публицистике Розанова, довольно внимательно следившего за его деятельностью, – вообще весьма интересная самостоятельная тема.)
102
Моей Уфимской пастве (Обращение 7 марта 1917 г.) // УЕВ. 1917. №5–6. С. 135.