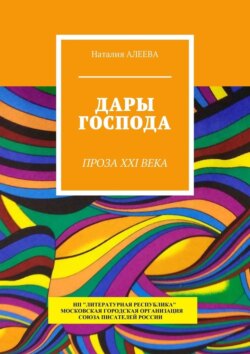Читать книгу Дары Господа. Проза XXI века - Наталия Алеева - Страница 12
ДАРЫ ГОСПОДА
Временная и вечная судьба
Оглавлениепамяти отца
Служба в храме закончилась, но я стояла перед закрытыми Царскими вратами и чувствовала, что должна что-то сделать. Это было как в театре, когда ты знаешь, что сейчас – твоя реплика… и для того, чтобы время не остановилось, ты должен сделать шаг ему навстречу. Но память моя была «безвидна и глуха» – я не знала, что предпринять.
Тут из алтаря вышел отец Иван (так он сам себя именовал) и ласково спросил:
– Ну, как дела? Хочешь о чем-то поговорить?
Этот жест участия прозвучал камертоном, на который можно было откликнуться только в лад – правдой, чем-то самым важным, о чём, мне казалось, я не думала в ту минуту. И я сказала:
– У меня папа никак не может умереть.
(«букет» его недугов был несовместим с жизнью).
– Послушай, так, может быть, его надо причастить?
– Это невозможно! Он всю жизнь «стоял на броневике». У него в кабинете портрет Ленина вместо фотографий детей и внуков.
– Знаешь, в такой ситуации всё меняется, да так, что мы и представить себе не можем! И потом: наше дело предложить, а его – сделать выбор.
И, не заходя домой, я поехала к родителям на дачу. Шёл конец января. Дорога перед домом была засыпана снегом, на котором виднелись лишь следы братьев наших меньших…
Когда мама услышала, о чём я собираюсь с отцом говорить, то всплеснула руками… Ведь одно из самых известных искушений – это искушение неприятием. А ей, как никому другому, была ведома его агрессия ко всему, что не совпадало с представлением о чести, долге и служении его атеистическому Отечеству, духовным невольником которого он был. Она помнила, как, увидев крестики на шеях своих внучек, он готов был воплотить сюжет «я тебя породил, я тебя и убью», ибо за инакомыслие судил домочадцев сурово. Даже нежность, которой он дозволял больше обитать на пространстве поэтических строк, заключена была им в сердце атеистического миссионера, потому что на протяжении всей его сознательной жизни Отечество держало заговор молчания о духовных вопросах, истинном смысле человеческой жизни и смерти на земле. Страна, победившая неграмотность, лишила своих граждан главной книги – Евангелия, той Благой Вести, «ради которой и следовало побороть неграмотность». Утверждалось, что человек – это лишь мелкая деталь могучего механизма, а «гайкам» и «заклёпкам» рассуждать о смысле жизни не полагается… И, хотя люди упорно не говорили о Боге, Ему оставались верными природа и архитектура уцелевших церквей; люди молчали, а живой, не искалеченный ещё ими мир, продолжал славить Господа…
Последнее время отец радовался моим приездам, любил, когда я предлагала ему крепко заваренный кофе. И в тот раз мы тоже пили кофе… Не зная, как начать, я мысленно взмолилась, и на вопрос «Ну, как там, в Москве, что нового?» начала с житейского: о том, что всё теперь непредсказуемо, всё зыбко (шёл первый месяц 1993 года). Я рассказывала о взвивающихся ценах, и он изумлённо слушал, поражаясь, что на свою прежнюю зарплату в Литинституте, где более четырёх десятков лет вёл семинар поэтов, сейчас смог бы купить лишь алюминиевую банку пива. Я говорила, что, не обретя ориентиров, всё сдвинулось со своих мест, и незыблемым, пожалуй, осталось одно – Церковь, знакомые священники… Взглянув на отца, я увидела, что, по-прежнему, нахожусь в фокусе его глаз, и в них даже мелькнуло любопытство. Тогда я сказала:
– Кстати, один из них, внук великого учёного, спрашивал меня о тебе и хотел бы с тобой поговорить. Только, папа, он очень занятой человек и на бытовые разговоры у него нет времени. Он бы с радостью приехал к тебе, если бы, пообщавшись с ним, ты захотел исповедаться и причаститься. Ты знаешь, что такое причащаться?
– Конечно, знаю. Что ж, я не русский человек, что ли? Я помню, как в детстве мы с бабушкой ходили по праздникам в церковь и даже там причащались. А, знаешь, я бы хотел встретиться с этим священником, почему нет? Попроси его приехать ко мне…
Оказалось, что отец Иван сможет приехать на дачу только через четыре дня. Накануне вечером мы созвонились, и я услышала:
– Мы обязательно завтра поедем, только надо найти на чём, у меня украли машину.
– Как?
– Поехал заправляться перед поездкой, вставил в бак «пистолет», а когда пошёл платить деньги, какие-то ребята прыгнули в машину и укатили… У меня в руках осталась только крышка от бачка.
– Отец Иван, это наша вина!.. Разве можно упустить такую душу!..
Он засмеялся и сказал, что всё равно завтра едем:
– Найдём, кто нас отвезёт…
На следующее утро, ещё в предрассветных сумерках, мы вошли в родительский дом. Мама рассказала, что все эти дни, отец, просыпаясь утром, спрашивал:
– Они сегодня приедут?
И потом мог не раз терять сознание и обо всём забывать, но на следующее утро снова ясно задавал всё тот же вопрос.
…Когда священник уходил, папа попросил дать ему какую-нибудь книгу (о. Иван оставил ему прозу Ивана Шмелёва) и повесить перед глазами маленькую икону Божией Матери.
– Видите ли, в детстве я рос без матери, считал, что она меня бросила (так мне сказали взрослые, а её призвали медсестрой на фронт Первой Мировой войны), и потому не хотел даже видеть её фотографии. А теперь вот, на излёте, буду лежать и смотреть на Лик Матери Бога и мысленно беседовать с Ней – Матерью, занятно!..
Жизненные испытания – тайна человеческого пути, и судьба отца была многотрудной. Родился он за пять лет до революции. Его дед-латыш к тому времени был выслан из Латвии «за пособничество революционерам». Семья поселилась на Волге, и ещё недавно, проплывая на пароходе эти места, я услышала от экскурсовода, словно для меня сказанные слова: «На этом берегу реки вы видите остатки брёвен большого дома. Это бывшее имение одного латыша, высланного ещё до революции в Россию». Обустроившись на новом месте, человек этот, по имени Клов Озолинг, не отказывал в помощи никому. Но, несмотря на образцовое хозяйство, слыл среди местных жителей, как человек «слабый умом», ибо вместо того, чтобы сажать в годы разрух на своей земле картошку, посадил берёзы. Сельчане допытывались: «Зачем?», а он давал «невразумительный» ответ: «Здесь Волга поворачивает, и когда пароход выйдет из-за поворота, откроется красивый вид на высокий берег с берёзовой рощей».
Отец родился в Ялте. Его родитель был талантливым мастером фотографии и имел на Чёрноморском берегу фотомастерскую – модное в те времена заведение. Так случилось, что под материнской опекой ему суждено было провести лишь первые годы. Мальчику не было ещё и четырёх лет, когда они остались вдвоём с отцом, который зарабатывал деньги, но, будучи импозантным мужчиной, не отказывал себе и в житейских радостях. С этого времени его сын был больше предоставлен самому себе. Невостребованную же любовь своего сердца он направил на то, чтобы без спортивных дорожек и снарядов стать олимпийцем во всем, за что бы ни брался.
«Волны меня треплют, но я не утону» – начертано на гербе Парижа. Такое же начертание могло бы предварить жизнь отца.
Ему ничего не давалось как манна. Но спасал принцип: то, чем занимаешься, делать, как можно лучше. Поэтому, если он плавал, то как рыба. Если рисовал, то ему прочили будущность живописца. Словом, мог заворожить любую компанию.
Всё, что читал, понимал и помнил. А на балалайке играл так, что ни одна свадьба в округе не обходилась без него.
Он плёл корзины из лозы, столярничал, точил сапоги, клал печи и из подручного мог приготовить вкуснейшую еду. Последнее умение особенно было оценено однополчанами на войне, куда он ушёл добровольцем. Лишь только объявлялся привал, отец принимался за кулинарное «колдовство». И из нехитрого пайка, приправленного найденными тут же травами и корешками, у него получались необыкновенные блюда. И солдаты, наскоро обустроив землянки, сходились к огню его костра на скромный пир.
А в тыл от него летели военные треугольники и письма со стихами.
Когда не было под рукой бумаги, он писал на бересте:
Озаряемый войной,
Я пишу тебе одной.
И бумага для письма —
Необычная весьма.
Я пишу тебе одной
На берёсте ледяной,
А ракета в вышине
Заменяет лампу мне.
У меня над головой
Вал проходит огневой,
Я пишу, а этот вал
Всё сметает наповал.
Небо стонет надо мной,
Я пишу тебе одной,
Чтобы ты наедине
Вспоминала обо мне…
Все свои умения он не забыл и потом, когда посвятил себя поэзии. Но жизнь его по-прежнему испытывала, и канва её была похожа на один из военных эпизодов солдатской службы.
Как-то ему поручили доставить донесение в соседнюю часть. Он с конвертом за пазухой и выученным паролем отправился на задание. Пройдя благополучно часть пути, вышел на опушку. Чтобы снова углубиться в лес, ему надо было миновать большое поле. Когда треть открытого пространства уже была позади, он услышал гул в небе и по звуку понял, что это «МЕССЕРШМИТТ». Немец заметил его и, пройдя на бреющем полёте, попытался расстрелять. Отец говорил, что лётчик летел так низко, что он видел его рыжие волосы и лицо в канапушках. Самое трудное было удержаться, чтобы не броситься на землю, а, замерев, стоять.
«Если бы поддался слабости, то он бы меня угрохал, потому что, когда стрелял, вся земля вокруг била фонтанами. – добавлял он. – Первый раз пролетел, и снова заходит на круг, разворачивается, а я бегу ему навстречу. Он – снова на меня. Я – опять замираю, и только пролетит, снова бегу. Так три раза он заходил. И каждый раз я видел его белые зубы в улыбке. Возвращался, пока я не достиг леса. Ну, там уж я был спасён! Кстати, хорошая тема, о ней ещё не написал: асс-лётчик, передовая немецкая техника – против одного русского солдата в поле, и ничего они сделать не могут с гвардии рядовым…»
С войны отец принёс дневники, листки со стихами, написанными в часы затишья, а из вещей у него были с собой кружка, ложка да нож. Он не принял «закона» победителя – тащить чужое, хотя и приходилось задерживаться в брошенных хозяевами домах уже за пределами нашего Отечества. Право быть неправым он отвергал.
Как смешно! Давно ли, завывая,
Смерть меня искала невпопад.
А теперь читаю у трамвая
Надпись: «Осторожно. Листопад!»
Милая, не пышно ты одета,
Не богат костюм защитный мой, —
Пехотинец, обойдя полсвета,
Налегке пожаловал домой.
Что для нас трофеи-самокаты,
Разные шелка да зеркала,
Если на ладони у солдата
Вся судьба Отечества была!
Вот он я, в пилотке и шинели,
В нашу пользу кончены бои.
И Москва – красавица, не мне ли,
Посвящает празднества свои!
Если смерть ушла как таковая,
Если я вернулся невредим, —
Значит, будем жить, не уставая,
И себя в обиду не дадим!
Быт его мирной жизни всегда был не налажен, но он привык обретать почву под ногами в деле, которым занимался, будь то работа проходчика метро, куда он в тридцатых годах пошёл по комсомольской путёвке, или довоенная работа на оборонном заводе, где собирали самолёты.
В те годы по вечерам он ходил в Литинститут и после занятий, вручив сторожу шкалик с закуской от «Елисеева», засыпал на кожаном диване директорского кабинета – ему некуда было идти в этом большом городе, где он работал, учился и писал стихи.
После войны он, наконец, решился прийти к девушке, с которой, больше по письмам, был знаком семь лет. Когда они встретились, то открыли континент взаимной Любви.
Своей единственной на всю жизнь жене он посвятил сто одиннадцать стихотворений, лирические поэмы и миниатюры, которые дарил за столом, на прогулке или записывал в дневнике, если в тот час её не было рядом.
Для неё же он стал главным ребёнком, которому она посвятила жизнь без раболепства и упрёков – так, как могут поступать только ангелы и мудрецы.
Недаром есть такая аксиома: «устраивая своё сердце, устраиваешь мир», и друзьям было отрадно в кругу их счастья.
Они расстались на земле только через полвека. Ненадолго, чтобы вскоре быть снова вместе —уже навсегда…
Литературный институт для отца был особым местом. Здесь он встретил учителей, которых до конца жизни чтил как небожителей. Этот институт для него был и оставался храмом, где он потом уже сам «священнодействовал», руководя поэтическими семинарами.
Его вера в построение рая на 1/6 Земли была неколебима. И он служил этой идее.
— Настоящие вещи, — наставлял он своих семинаристов, — начинаются с преодоления самого себя и с огромной мобилизованности. Правда не терпит неправды, и только с этим чувством надо идти вперёд и брать новые высоты. И писать надо тонко, словно в руках у тебя – гусиное перо, о чём бы ты ни говорил.
Осень
Русская,
Синяя,
Озимь —
Хрусткая,
В инее.
Сколько грусти
И прелести
В этом хрусте
И шелесте!..
В Литинституте он выпестовал сотни учеников. Всех помнил и ревностно защищал. За годы учёбы они нередко собирались у него дома или на даче. И, обсуждая стихи у костра, отец часами беседовал с ними обо всём на свете. Он утверждал, что человек должен быть устойчив, только тогда он сможет помочь и себе, и другим; что в сущность цели всегда входит и путь, поэтому в настоящем для каждого есть только три «кита» – служение, долг и верность. По-военному: «жизнь – Отечеству, честь – никому». Студенты его слушали и признавали потом, что эти часы были золотыми крупицами в их жизни. Но трагедия государственного атеизма была также и личной трагедией их учителя, потому главной темы – поиска и верности Богу он никогда не касался…
Через три дня после встречи с отцом Иваном папа во сне умер. Но теперь мы могли проводить его не в зале Центрального Дома Литераторов, а по-христианскому обычаю, в Церкви.
В храме во имя небесного покровителя отца святого Сергия Радонежского собралось немало народа, и когда началась служба, часть людей, не зная, что делать, прибилась поближе к стенам. Тихо спрашивали: «Почему его привезли сюда? Что, это было его желание?» Но когда в руках возгорелись свечи, и безмолвными голосами огней вознеслась молитва, всё умиротворилось.
Лицо отца было благодарно спокойно. Телесные недуги и боль, наконец, рассыпались и выпустили его душу. И, обновлённая, она была где-то рядом, мудрее каждого из нас и всех вместе взятых, ибо перешла уже по другую сторону бытия. Можно было думать, что теперь она переполнена Любовью, Утешением и Светом.
Блещет мир, будто заново создан.
Мы стоим на обрыве скалы.
Из-под рук – осыпаются звёзды,
Из-под ног – вылетают орлы.
«Вечная память» возглашал священник, «вечная память» вторил ему хор… И вдруг стало понятно, что «память вечная» – это не людская память, а та сила, которая, охраняя всё прекрасное, что есть в душе, уносит её в Вечность…