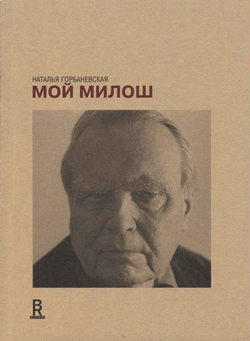Читать книгу Мой Милош - Наталья Горбаневская - Страница 7
Большой формат
Поэтический трактат
II. Столица
ОглавлениеЧужой ты город на песках сыпучих,
Под православным куполом Собора,
Твоя погудка – ротная побудка,
Кавалергард, солдат всех выше,[8]
Тебе из дрожек ржет «Аллаверды».
Так надо оду начинать, Варшава,
Твоей печали, нищете, разврату.
Окоченелою рукой лотошник
Отмеривает семечки стаканом.
Увозит прапорщик у стрелочника дочку,
Чтобы ей княжить в Елисаветграде.
На Черняковской, Гурной и на Воле
Уже шуршат оборки Черной Маньки,[9]
Уже она в парадном подмигнула.
Тобою, город, Цитадель владеет.
Прядет ушами кабардинский конь,
Едва послышится: «Смерть вам, тираны!»
О луна-парк привислинского края,
С губернией тебе бы управляться.
Но стать теперь столицей государства,
Теперь, в толкучке беженцев с Украйны,
Распродающих уцелевший скарб?
Палаш да ржавый карабин французский —
Вооруженье для твоих баталий.
Против тебя, смешная, все бастуют:
И в Златой Праге, и в английских доках.
В отделах пропаганды добровольцы
Строчат ночами о грозе с востока,
Не зная, что над гробом им сыграют
На хриплых трубах «Интернацьонал».
И все-таки ты есть. И с черным гетто,
И со слезами женщин в довоенных
Платках, и с сонным гневом безработных.
Шагая взад-вперед по Бельведеру,
Пилсудский не уверует в стабильность.
«Они на нас, – твердит он, – нападут».
Кто? И покажет на восток, на запад.
«Я бег истории чуть-чуть затормозил».
Вьюнок взойдет из заскорузлой крови.
Где полегли хлеба, пройдут бульвары.
Как это было? – спросит поколенье.
А после не останется ни камня
В том месте, где ты был когда-то, город.
Огонь пожрет истории прикрасы,[10]
Как грошик из раскопок, станет память.
Но поражения твои вознаградятся.
Как знак того, что только речь – отчизна,
Вал крепостной тебе – твои поэты.
Поэт нуждался в доброй родословной.
От набожного цадика, к примеру.
Родители, Лассаля начитавшись,
Клялись Прогрессом и берлинской Lied
И выхолащивали красоту.
Бывали захудалей: из мещанства,
Из безземельной шляхты, даже немцы.
Не снилось им, гудя «Под пикадором»,
Как горек на укус лавровый лист.
Тувим на вечерах в глухих местечках
Кричал, раздувши ноздри: «Ça ira!»
Взрывался зал туземной молодежи
На ветхий звук запрошлого столетья.
Энтузиастов – тех из них, кто выжил, —
Тувим увидит на балу ГБ.
Кольцом замкнулась огненная цепь,
Бал у Сенатора[11] вовеки длится.
Весну, не Польшу поджидал весною,[12]
Топча былое, Лехонь-Герострат.
Однако жизнь его прошла в раздумьях
О слуцких поясах, о кармазине
Да о религии: не о католицизме,
Но – просто польской. Для национальной
Обедни он избрал в жрецы Ор-Ота.[13]
А что Слонимский, грустный, благородный?
Грядущее он пел, ему вверялся
И верил: по Уэллсу ли, иначе ль,
Но Царство Разума вот-вот наступит.
Под Небом Разума кровоточащим
Он и под старость внуков одарял
Надеждой бородатой: мол, увидят,
Как Прометей спускается с Кавказа.
Из камушков цветных слагал именье
Делам публичным чуждый Ивашкевич,
Поздней оратор, он же гражданин,
Суровой неизбежности покорный.
Релятивистом быть, ведь всё проходит,
И – стать герольдом доблестей славянских,
Чтоб слушать нам мужицкую капеллу, —
Есть меланхолия в такой судьбе.
Но одиночество в глуши заморской
Не лучше – разве что для честолюбья.
Извечен птичий крестик на снегу.
Не ранит время и не исцеляет.
В окно к Вежинскому заглянет сойка,
Сестрица голубая прикарпатской.
Такою-то ценой платить придется
За юность – за вино и за весну.[14]
Такой плеяды не было вовеки.
Но в речи их поблескивала порча.
Гармония у них пошла от мэтров.
В их обработках не было помину
О гомоне сыром простых вещей.
А там бурлило, там бродило глубже,
Чем достает отмеренное слово.
Тувим жил в ужасе, смолкал, кривился
С чахоточным румянцем на щеках.
И, как позднее честных коммунистов,
Он искушал тогдашних воевод.
Закашливался. В крике был второй,
Замаскированный: что общество людское
Само уже есть чудо из чудес,
Что мы едим, и говорим, и ходим,
А вечный свет для нас уже сияет.
Как те, что в радостной, пригожей деве
Скелет узрели, с перстнем на фаланге, —
Был Юлиан Тувим. Поэм он жаждал.
Но мыслил он – как рифмовал, банально,
Истертым ассонансом прикрывая
Видения, которых он стыдился.
Кто белою рукою в этом веке
Усеивает строчками бумагу,
Тот слышит плач и стук несчастных духов,
Закрытых в ящике, в стене, в кувшине
И тщащихся дать знать, что их рукой
Любой предмет из хаоса был добыт,
Часы тоски, отчаянья, муки
В нем поселились и уж не исчезнут.
Тогда пугается перо держащий,
Неясное питает отвращенье,
Былую ищет обрести невинность,
Но ни к чему рецепты и заклятья.
Вот отчего младое поколенье
Умеренно любило тех поэтов,
Им почести воздав, но не без гнева.
Оно с тех пор программно заикалось:
Заика-де высказывает смысл.
Не в милости у них был и Броневский,
Хоть что-то – необузданно, подпольно —
Слагал в стихи для пролетариата.
Однако дубликат Весны Народов —
В конце концов такое же бельканто.
А им мерещился Уитмен новый.
В толпе извозчиков и лесорубов
Он превращал бы повседневность в солнце.
Вибрируя в рубанках и долотах,
На всю-то он вселенную сиял бы.
Авангардистов было очень много.
Достоин восхищенья только Пшибось.
В труху распались нации и страны,
А Пшибось тем же Пшибосем остался.
Ему безумье сердца не изъело.
По-человечески его легко понять.
В чем его тайна? В Англии Шекспира
Уже возник такой помпезный стиль,
Что признавал метафоры и только.
В душе был Пшибось рационалистом.
В эмоциях не выходил за рамки
Разумной социальной единицы.
Равно ему чужды печаль и юмор.
Хотел он раскрутить статичный образ.
Авангардисты, в общем, заблуждались,
По краковскому старому обряду
Приписывая слову ту серьезность,
Что не снесет оно, не став смешным.
Но, челюсти сжимая, замечали,
Что говорят они натужным басом
И что мечта их о народной силе —
Уловка устрашенного искусства.
А глубже – то была пора раскола.
«Бог и Отчизна» больше не пленяли.
Сильней, чем встарь филистера богема,
Поэт улана ненавидел, флаги
Осмеивал и презирал мундиры,
Плевал, когда со стэками юнцы
Визжа гнались за купчиком в ермолке.
Финал заранее был уготован
Не за нехваткой пушек или танков.
Авангардисты, рационалисты,
А все поэты в Польше – как барометр.
Соборная распалась, скажем, ценность,
И вера общая людей не единила.
Кто сознавал – в иронию скрывался
И жил на островке, среди своих.
Кто сознавал острей – внушал себе же,
Что если чтит кумиров, то с народом.
Галчинский рвался падать на колени.
Его история полна глубоких истин,
И главная: без общества поэт —
Как ветра шум в сухих декабрьских травах.
Не для него сомнения, иначе
Схлопочешь вмиг предателя клеймо.
Да будет сказано в конце концов,
Что партия – наследник ОНР’а,[15]
А кроме них была сплошная пустошь
Да жалкий бунт презренных единиц.
Кто Болеславов меч извлек из тлена?
Кто мыслью вбил быки в корыто Одры?
Кто сделал из страстей национальных
Устойчивый цемент великих строек?
Галчинский всё связал одним узлом:
Смех над буржуем, польскую «Хорст Вессель»
И гордость, что и мы – мы тоже скифы.
Он был равно прославлен в две эпохи.
Иная связь Чеховича с землею.
Укропа грядки, ветхие застрехи,
Как зеркальце – привислинское утро.
Разносит эхо по росе куявяк
Вальков да прачек подле ручеечка.
Он малое любил, он сны собрал
Земли аполитичной, беззащитной.
О птицы и деревья, от забвенья
Могилу Юзя в Люблине храните.[16]
Не нацию желал, а сто народов
Затронуть Шенвальд. Хоть и сталинист,
Умел у Маркса черпать и у греков.
То нарисует сцену у ручья,
Где школьная экскурсия встречает
Босых, крадущих хворост ребятишек,
А то покажет, как велосипед
Овеял счастьем парня из барака.
Поэзия – не функция морали.
Вот Шенвальд – лейтенант-красноармеец.
Когда по лагерям полярным стыли
И стекленели трупы ста народов,
Прекраснейшими польскими стихами
Писал он оду Матушке-Сибири.
А школьник по крутому тротуару
Уносит книгу из библиотеки.
А книга эта – пухлый том Майн-Рида,
Засаленный ладошками индейцев.
Косой закат в лианах амазонских,
Волной сносимы, распростерты листья,
Что выдержат и тяжесть человека.
Он, фантазер, плывет на этих листьях,
И, бурые, как войлочный орех,
Над ним мостом сплетаются мартышки.
А он, поэтов будущий читатель,
Кривых плетней и серых туч не видит,
Уже готовый жить в стране чудес.
И, если обойдет его погибель,
Он нежность сохранит к проводникам.
А Ивашкевич, Лехонь и Слонимский,
Вежинский и Тувим навек пребудут
Такими, как их в юности он встретил.
Кто больше да кто меньше, он не спросит,
Охотясь в каждом за иным оттенком,
Ведя челнок по Амазонке звезд.
Там ту же ложку супа в рот заросший
Людского голода вливает Виттлин.[17]
Балинский слышит бубенцы верблюдов
В розово-серый исфаганский вечер.
Там Тит Чижевский вторит заклинанью
Трубящих над Младенцем пастухов.
Корабль в витрине созерцает Важик,
И искрится волна Аполлинера.
Там раздаются трели нашей Сафо,
Какой еще не знала наша речь,
Оршули Кохановской[18] воскрешенной.
Сотрется жизнь, но кружится пластинка.
Давно забыв о бархате Карузо,
Играет жалобу Марии Павликовской,
Предсмертное ее «Perche? Perche?»[19]
Так не напрасно ссохлась кровь улана
Для муравьев подарком под березой?
Не так уж, значит, стоит осужденья
Заботившийся только о границах
Пилсудский? Он купил нам двадцать лет,
Тянул он шлейф грехов и обвинений,
Чтобы прекрасное созреть успело.
Прекрасное – такая, скажут, малость.
Читатель, ты не заживешь по-райски.
Страна эта прекрасна и обильна,
Да непрочна, как брезжущий рассвет.
Мы что ни день ее воссоздаем
И больше уважаем, что реально,
Чем что застыло в звуке и в названьи.
И силой – она вырвана у мира,
А без усилия – не существует.
Прощай, прошедшее. Стихает эхо.
И нашей речи быть кривой, корявой.
Последние стихи эпохи шли
В печать. Их автор, Владислав Себыла,
Под вечер вынимал из шкафа скрипку,
На полке с Норвидом футляр оставив,
И железнодорожного мундира
Тогда он не застегивал петлицы.
В своих стихах, подобных завещанью,
Отчизну он сравнил со Святовидом.
Все ближе, ближе барабанный рокот
С равнин восточных, с западных равнин,
А ей все снится пчел ее жужжанье
В полдневный зной, в садах у Гесперид.
За это ли Себылу под Смоленском
В лесу зароют, прострелив затылок?[20]
Прекрасна ночь. Высокая луна
Переполняет небо тем сияньем
Особенным, сентябрьским. Скоро утро.
И воздух тих над городом Варшавой,
И серебристые аэростаты
Стоят недвижно в побледневшем небе.
Процокают у Тамки каблучки,
Призывный полушепот, и в бурьянник
Уходит парочка. В тени незримый,
Молчит дежурный, только ухо ловит
Их слабый смех в густой постели мрака.
Ни жалость одолеть он не умеет,
Ни выразить их общую судьбу.
Рабочий и простая поблядушка
Перед ужасным восходящим солнцем.
И, может, поразмыслит он позднее,
Что стало с ними в днях или веках.
8
«Кавалергард, солдат всех выше» – по-русски в тексте. Строка из русской армейской песни.
9
«На Черняковской, Гурной, на Воле» – начало припева популярной в варшавских предместьях баллады о Черной Маньке, проститутке, отравившейся после того, как ее бросил возлюбленный (ср. «Маруся отравилась…»).
10
Строка из «Конрада Валленрода» Мицкевича. Здесь приводится по кн.: Адам Мицкевич. Стихотворения. Поэмы. М., 1968, – в пер. Н. Асеева.
11
Бал у Сенатора – сцена из III части «Дзядов» Мицкевича:
Смотри, как подъезжает к даме.
Вчера пытал – сегодня в пляс.
Обшаривает всех глазами,
Шакалом рыщет среди нас.
………………
Вчера, как зверь, когтил добычу,
Пытал и лил невинных кровь.
Сегодня, ласково мурлыча,
Играет с дамами в любовь.
……………….
Какой здесь блеск, все тешит взоры!
……………….
Ах, негодяи, живодеры!
Чтоб разразило громом вас!
Пер. В.Левика. Цит. по тому же изд.
Речь идет о следствии, которое вел в Вильне сенатор Новосильцов по делу молодежного тайного общества филаретов. Арестованный по этому делу, Мицкевич был выслан во внутренние губернии России (его приговор был одним из самых мягких).
12
«И пусть весной весну – не Польшу встречу», – писал Ян Лехонь (Лешек Серафинович) вскоре после восстановления независимой Польши. Это было время, когда в кафе «Под Пикадором» (одним из его основателей был Лехонь) начала складываться поэтическая группа «Скамандр» – о ней Милош далее говорит: «Такой плеяды не было вовеки». Кроме Лехоня, в «Скамандр» входили Юлиан Тувим, Казимеж Вежинский (скончавшийся, как и Лехонь, в эмиграции), Антоний Слонимский и Ярослав Ивашкевич – обо всех см. далее текст «Трактата». Нижеупомянутые «слуцкие пояса» и «кармазин» – приметы «старопольскости».
13
Ор-От (Артур Оппман) – польский поэт старшего по сравнению со «скамандритами» поколения (1867—1931), певец Варшавы, патриотизма и борьбы за независимость, участник польско-советской войны 1920.
14
«Весна и вино» – сборник стихов К. Вежинского (1919).
15
ОНР – Национально-радикальный лагерь, национал-социалистическая группировка, действовавшая в Польше в 1930-е. Деятели ОНР, особенно его крайнего крыла – ОНР-Фаланги, позднее легко нашли общий язык с коммунистическим режимом и, возглавив «товарищество мирян-католиков» «Пакс» («Рах»), содействовали идеологии и практике национал-коммунизма. Константы Ильдефонс Галчинский перед войной сотрудничал в журналах ОНР.
16
Юзеф Чехович (1903—1939) был убит в Люблине в первые дни войны немецкой бомбой – такую смерть он себе предсказал в одном из своих стихотворений. Крупнейший представитель «катастрофизма», поэт «второго авангарда», провинциал, лишь наездами живший в Варшаве, – он особенно близок Милошу, с которым его связывала и личная, и поэтическая дружба. Выше Милош цитирует стихотворение Чеховича «Из деревни».
17
Всё начало этой строфы – вереница скрытых цитат или отсылок к стихам названных в ней поэтов: «Гимн о ложке супа» Юзефа Виттлина, «Возвращение в Исфагань» Станислава Балинского, «Пасторалька (Коляда)» Тита Чижевского (цитаты из этого стихотворения см. также в конце III части «Трактата»). Адам Важик много переводил французских поэтов, в особенности Г.Аполлинера. Мои поиски упомянутого Милошем стихотворения Важика не увенчались успехом.
18
Оршуля – дочь величайшего польского поэта Яна Кохановского (XVI в.), умершая в малолетстве. На ее смерть Кохановский написал пронзительные «Трены» («Плачи»), где говорит, что Оршуля должна была стать его наследницей в поэзии. В традициях польской поэзии – сравнивать поэтесс с Оршулей Кохановской.
19
Стихотворение Марии Павликовской-Ясножевской «Perché» входит в цикл «Пластинки Карузо». Образ пластинки появляется и в одном из предсмертных стихотворений Павликовской, где «игла соловьиного голоса» упирается в «холодную могильную плиту» (по-польски плита и пластинка – одно и то же слово), и эта плита-пластинка «кружит, и звучит слоу-фокс „ЖИЗНЬ“ среди ночи и рос» (перевод дословный).
20
Владислав Себыла был расстрелян в Катынском лесу. В Нобелевской лекции Милош сказал:
«В антологиях польской поэзии есть имена моих друзей: Леха Пивовара и Владислава Себылы – и дата их смерти – 1940. Абсурдно, что нельзя написать, как они погибли, хотя в Польше каждый знает правду: они разделили судьбу многих тысяч польских офицеров, разоруженных и интернированных тогдашним пособником Гитлера, и похоронены в массовой могиле».
Отметим, однако, что в двухтомной антологии «Польская поэзия» (сост. С. Гроховяк и Я. Мацеевский. Варшава, 1973) годы жизни Себылы указаны: 1902—1941, с фальсифицированной датой смерти. Те же даты были повторены и в первом и единственном (на 1982, когда я переводила «Трактат» и составляла примечания. – НГ-2011) издании стихов Себылы, вышедшем в Варшаве в 1981. Упомянутое Милошем стихотворение – «И снова топот ног солдатских…» – было напечатано в 1938 в сборнике «Образы мысли».