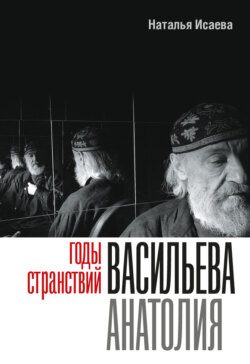Читать книгу Годы странствий Васильева Анатолия - Наталья Исаева - Страница 14
Глава 2. Педагогическая работа в Европе (Лион, Венеция, Париж)
Пропедевтика бессмертной страсти
ОглавлениеДаже для строгих философских диалогов Платона, для классических неподвижных текстов Васильев предложил своим ученикам вернуться к практике «этюда» – практике, глубоко укорененной в свободной импровизации речей и поступков (это и опыт Станиславского периода «физических действий», и особенно уроки Марии Кнебель во время ее преподавания в ГИТИСе). Между тем хорошо известно, что этюд напрямую связан с самой сущностью психического («психологического», как сказали бы основатели). В идеале этюд – это почти алхимический процесс, который позволяет актеру сублимировать собственные страсти и воспоминания, чтобы возбуждать некое внутреннее ядро (ситуативное или ментальное!) своего естества. В диалогах Мольера, Еврипида или Пушкина, в сценах из Пиранделло или Чехова, все равно – из собственного тела с его психофизическими реакциями не выпрыгнешь: психика тут же, со мной, она подвижна и спонтанна, но я сам ее больше не узнаю. Вот и получается, что даже тайная «за семью печатями» психика раскрывается ярче внутри любых игровых структур – она делается так страшна, прекрасна и неожиданна (прежде всего для меня самого), что это срабатывает как вид неловкого акробата, опасно балансирующего на натянутой проволоке. Ну да: «Канатоходец» («Le Funambule») Жана Жене (Jean Genet) – этот Абдалла, вся страстная нежность к которому ранит меня в момент его срыва, в само это мгновение падения вниз, когда и сам я, зритель, падаю туда же – бесповоротно, беспросветно вместе с этим чертовым циркачом!
Уже у Платона (равно как и у кашмирских шиваитов) мы находим эту поразительную аналогию между эротической любовью и творчеством: это чистое желание, что постоянно ищет себе новые тела, новые души, которые оно могло бы схватить и присвоить. По словам Станиславского, режиссера-учителя следует рассматривать скорее как акушерку, которая призвана помочь рождению роли. Васильев же прямо отсылает нас к архетипу Диотимы из «Пира» Платона, к этому мощному образу посредника, проводника, сопровождающего нас на подъеме к вечной красоте и бессмертию. Васильев часто говорит, что сама сила Эроса заполняет здесь промежуток – это расстояние между перформером, исполнителем действия, и предметом игры или объектом диалога (заметим, что иногда и его персонажем). Это расстояние все время меняется, размывается, но остается всегда заряженным игровым электричеством: для Васильева – в силу амбивалентной природы самого игрового как эротического. Можно сказать, что в игровых структурах творчество порождается в игровой среде, созданной этим «сдвигом» (или «зазором», по его терминологии). Этот промежуток меняется, но всегда необходим. Итак, в игровых структурах зазор расположен между человеком, «персоной» актера, – и вынесенным им действенным фактом, или проецируемым объектом, образом. Кроме того, он обусловлен неопределимой по самой своей сути, вечно изумляющей нас природой основного события – природой той конечной цели, что сокращает и укорачивает всякую перспективу, подспудно воздействуя на всех действующих актеров и на их поведение уже от самого начала игрового обмена. Вся эта «психомеханика», начиная от «Персонажей», касается, по раннему определению ее автора, «буферных, смешанных структур, когда актер сохраняет ситуацию, но центр его внимания смещается, как бы выносится вперед, или же привлекается из основного события, из цели», оставаясь теперь перед ним как некое ядро, излучающее бесконечные игровые возможности. Как говорит сам Васильев,
игровые структуры, как и психологические, – законодательны. Они не манифестируют театр, а даны ему от роду. Исполнитель чувствует игровые структуры через среду игры. Среда игры – то, что внутри человека и что посылается им наружу, отделяется, рождается внутри, но посылается вовне… Игровая среда, – продолжает он, – это не качество, а свойство. А качество этой среды имеет свое имя: ирония. Реализм versus иронизм. В «Игроках» Гоголя при ситуативном обмене один обманывает другого. В случае же игрового построения – история становится концептуальной.
Парадоксальным образом, это также и дорога любви, то есть страсти как все возрастающей жажды, как игры par excellence, причем игры заведомо опасной, – и это вместе с тем путь всякого творчества. Французский историк культуры Пьер Клоссовски (Pierre Klossowski), рассуждая о технике итальянского актера Кармело Бене (Carmelo Bene), излагал это так: «То же самое тело само по себе не гарантирует одну и ту же душу, не говоря уже о характере dramatis personae (действующих лиц) – когда все они выступают аналогом души в ожидании будущего воплощения. В любой момент, когда мы наблюдаем его жесты, когда мы воспринимаем предложенные нам крики или шепоты Кармело, мы оказываемся лицом к лицу с нашей собственной дилеммой, от которой перехватывает горло: где, при каких обстоятельствах мы можем узнать себя такими, какими себя считаем, какими мы есть?» («Се que me suggère le jeu de Carmelo Bene»). Он говорит тут о некоем «тонком теле» (corps subtil) – той разреженной области, которая включает в себя и как бы окутывает тело и душу исполнителя, являя перед нами все осциллирующие, колеблющиеся возможности, всю эту территорию пугающей свободы игры, которая существует вокруг актера. Как будто все эти виртуальные существа продолжают незримо сопровождать личность художника – почти как блуждающие души из чистилища, как возвращающиеся призраки мертвых возлюбленных из театра Но или Кабуки – вечно в поисках нового тела, новой жизни, новой судьбы. (У кашмирцев, к примеру, есть сходный образ «сукшма-линга» (sūkshma-linga), или «сукшма-шарира» (sūkshma-śarīra). Это «тонкое тело», которое сохраняет для нас выражаемый смысл (в особенности смысл «утонченный», метафорический), но в то же время является единственно реальной связью между различными воплощениями души. Можно сказать, что именно «сукшма-шарира» выступает здесь в качестве носителя «следов» пережитых ощущений, а также остается своего рода «пунктирной» линией личности во всех ее воплощениях и трансформациях.)
Возвращаясь к методике исследования, к разнице между психологическими и игровыми структурами, мы сразу видим, что есть и иная возможность, чтобы привести их в некое соответствие. (Анатолий Васильев объясняет, как достигается такое соответствие, или сопряжение двух чистых противоструктур в смешанных «игровых структурах перехода или промежутка», которые он позже назвал мета-структурами.) Конечно, всегда можно посмотреть на путешествие героя как на путь, который связывает исходное и основное событие в драме. Но, глядя с некой более высокой точки зрения, невозможно отделаться от ощущения, что в самых интересных драматургических образцах (скажем, в произведениях метафизических) основное событие неизбежно выламывается за пределы самого текста. Если «перенести, приблизить или привлечь образ за пределами текста, – согласно правилу построения игрового действия, – в настоящее время обмена», если попытаться согнуть дугой этот лук, эту арку, мы увидим, что такой более удаленный конец, более дальняя и глубокая цель для равновесия тотчас же требуют от нас начать и сам путь гораздо раньше. Иными словами, эсхатологическая цель предполагает и изначальный корень где-то в подсознании, но в подсознании, уже превосходящем индивидуальную природу человека. Да, мы не можем полностью избежать этой ловушки, – но мы способны прийти к чему-то общему – к тому, что очень глубоко затрагивает всех нас вместе. И здесь, помимо знаменитого «коллективного бессознательного» (das kollektive Unbewusste) Карла Юнга, мы можем сразу же обратиться к чисто театральным поискам Михаила Чехова, Антонена Арто, Ежи Гротовского и Анатолия Васильева (в сравнительно недавний французский период его творчества). Для Васильева единственным инструментом, способным приручить этот первичный материал, выступает ритуализация (в своей лекции в 1998 году в Сан-Паулу Васильев в первый раз говорит об искусственной ритуализации как способе, который он сознательно применил для «Илиады»). Ритуал как единственный инструмент, способный контролировать эту расплавленную плазму наших глубинных снов, наших самых рискованных и жестоких импульсов, – этих «архетипов», которые уже существовали столетиями, задолго до нас…
Скажем, наконец, главное: для Васильева психофизика, даже подвижная, даже хорошо размятая в упражнениях, – это всего лишь подходящая жердочка, подходящие ясли, где может примоститься дух. Дух имеет странное обличье, и он сам ищет и формирует себе опору и жилище.