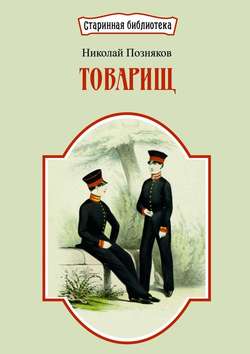Читать книгу Товарищ. Повесть из школьной жизни - Николай Позняков - Страница 3
Из прежней жизни
ОглавлениеИтак, первое впечатление, которое произвёл при своём появлении Боря Буланов, было такое, что он будет хорошим товарищем. Очень может быть, что он произвёл бы и совсем иное впечатление, если бы его случайно не дёрнули сзади за рубашку, и если бы он сразу рассказал Николаю Андреевичу, как Угрюмов обидел его.
Он сам понимал это. Он был настолько догадливый и наблюдательный мальчик, что сразу заметил, как его поступок понравился товарищам. Он понимал, что много зависит от того, как поставить себя с другими с самого начала. А раз первое впечатление было заметно-благоприятное, Боря был уж доволен.
Вот только зачем подумали о нём, что он также ударил Угрюмова, хотя он вовсе и не хотел его бить. Это вот не очень-то приятно.
Ещё раньше, когда он только что ехал, чтобы поступить в гимназию, он немало заботился о том, произведёт ли он хорошее впечатление, или нет. Он много наслышался о гимназии, о разных порядках, о строгости, и о том, как часто и больно попадает тем, кто не ладит с товарищами, кто жалуется или «фискалит» на них.
Рос он в совершенно иной среде; у него никогда ещё не было товарищей. Жил он с отцом и с матерью в деревне. Знакомых у них было мало, да и с ними они виделись редко.
Отец был всегда страшно занят по хозяйству и по службе. Бывая дома, он постоянно разъезжал по полям или запирался в своём кабинете, где читал книги или писал статьи о сельском хозяйстве. Но и дома-то он бывал редко, как-то налётом: иногда раза по два в неделю он выезжал в уезд по делам службы и не возвращался ночевать; иногда же целыми неделями оставался в городе. Так что с отцом Боря видался не постоянно, но уважал его и любил: детскою душою он постигал, что отец трудится, работает без устали, и что именно таким-то и должен быть человек.
Боря видел, что даже зимою, когда нет полевых работ, и когда вообще в хозяйстве настаёт затишье, отец всё-таки не знал отдыха. У него был крахмальный завод, где тёрли картофель и где вырабатывалась тысячами пудов крахмальная мука. Борин отец во всё вникал сам. Он часто проводил на заводе целые дни, переходя из тёрочного отделения в сушилку, оттуда к водокачке, отсюда на мельницу; десятки людей, работавших на заводе, любили и слушались Бориного отца, как можно любить только хорошего человека.
И Боря, замечая это, нередко задумывался о том, какой хороший и добрый папа, если его все так любят и слушаются. Он смотрел на папу, как тот серьёзно и озабоченно раскладывал в столовой на столе и разминал пробы новой муки, принесённые с завода; он вглядывался в его сосредоточенное лицо, окаймлённое светло-русою бородой; он любил следить за папой, как тот производил в кабинете химический анализ…
И хоть иногда у папы то или другое, бывало, не удаётся, он ни за что не рассердится, только пожмёт плечом, что-то шепнёт, нахмурит ещё более морщину на лбу и сядет в кресло, и думает, долго думает, откинув голову на спинку, или схватит с полки какую-то книгу, начнёт скоро-скоро перелистывать её и вдруг радостно вскрикнет: «А! Вот она штука-то в чём!» Даже Боре, бывало, станет радостно, когда он увидит, что папа наконец нашёл, чего искал. И ему всякий раз подумается: «Экий папа, право, умный!» И сильно хотелось Боре сделаться таким же добрым и умным как папа.
А случалось и так, что смотрит-смотрит Боря, как занимается отец, следит-следит за его работой, сначала с интересом, внимательно следит за каждым движением, а потом и утомится. Поздний час возьмёт своё, и начинает в глазах у Бори колоть и резать словно мелкими песчинками, и голова клонится к столу… Заметит это Боря, встряхнёт головой, протрёт глаза рукой и старается опять смотреть, как папа переливает и пересыпает какие-то жидкости и порошки из склянки в склянку, с блюдечка на весы, как он что-то кипятит в реторте6 над спиртовою лампочкой, заглядывает то в одну книгу, то в другую, то в газету или в журнал… И всё думает Боря: «Какой папа умный, как он много знает, и как бы хорошо сделаться таким же». Но опять у Бори песчинки режут в глазах, и одна мысль перегоняет другую и где-то теряется, и голова клонится на локоть, которым Боря упёрся в стол… Вот уж она лежит на локте, глаза у Бори закрыты, дыхание тяжелей… Он задремал. Он спит крепко…
Но папа, занимаясь, нескоро замечает, что его сынишка уж не следит за его работой. Отвлекает его от занятий сам Боря, тяжело всхрапнув. Папа вскидывает голову и видит, что сынишка лежит головой на локтях, а локтями на краю стола.
– Э! Да он спит! – говорит папа и, улыбнувшись, тихонько идёт к двери.
Осторожно приотворив её, он просовывает голову в щель и произносит полушёпотом:
– Соня, возьми-ка Борю. Как бы он не свалился.
– А что? Заснул?
– Да, спит.
Мама, поднявшись с дивана, где она при свете лампы что-то вышивала, идёт торопливо, но бесшумно из гостиной в кабинет. Она наклоняется над сыном, бережно кладёт свою руку ему на плечо и, слегка потряхивая его, говорит ласковым, кротким голосом:
– Боря, Боречка… Вставай, милый… Боря, проснись…
У него голова легонько покачивается, но не сразу открывает он глаза и, растаращив их, удивлённо смотрит на маму и на папу.
– Что! Заснул, милый? Устал? Вот как сладко задремал, даже слюнки потекли. Дай-ка я оботру.
У Бори, действительно, уголок рта и щека мокрые. Мама своим платком помогает ему в этой беде; потом поднимает Борю с табуретки и ведёт из кабинета, обняв за плечи, потому что он со сна жмурится, пошатывается и клюёт носом.
Вот уж они и в детской, вот Боря лежит в своей кроватке, и свежесть белья, охватывая его своею прохладой, заставляет его дрожать и кутаться, и на минуту прогоняет от него сон… Боря лежит и видит, как мама наклоняется над кроваткой, как она заботливо крестит его и шепчет:
– Огради нас, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста и сохрани нас от всяких бед.
Материнская ласка! Как Боря привык к ней! А здесь, в гимназии, его никто не поцелует, не перекрестит: тут надо всё больше заботиться о том, как бы со всеми поладить, как бы никого не обидеть, да и самого чтобы не обидели.
Впрочем, Боря привык к ласке не только потому, что папа и мама были к нему нежны: его никогда никто не обижал, он даже дурного слова, косого взгляда ни от кого не встречал.
В доме у них жили ещё няня Акулина Степановна, которая ходила за Борей с самого дня его рожденья, и гувернантка7 Madame Mélinnet8. Обе они были старушки, очень старые старушки. К ним Боря так же привык, как к родным, и любил их обеих очень.
Мама занималась с ним русским языком, арифметикой и немецким. Она кончила своё ученье в Петербурге на педагогических курсах и очень хорошо, понятно умела объяснять грамматику и арифметику.
А Закону Божию обучал Борю священник, отец Христофор.
Боря был замечательно способный и старательный мальчик. К поступлению в гимназию – а был он определён во второй класс – у него было пройдено даже больше того, что требовалось: он знал уж дроби – и простые, и десятичные, и прекрасно умел делать разбор – и по частям предложения, и по частям речи, с разными подробностями и тонкостями; под диктовку он писал почти без ошибок, даже запятые расставлял довольно верно, и бойко говорил по-немецки и по-французски. Хотя мама Борина и знала французский язык – говорила она на нём очень недурно и много переводила с французского из журналов для мужа, который в нём часто затруднялся, – но она не решилась сама обучать Борю по-французски, и для того, чтобы мальчик освоился с языком пораньше, была приглашена M-me Mélinnet.
Добрая это была старушка, безобидная и неприхотливая. Единственная слабость её была – рассказывать про своего покойного мужа. Она уверяла, что муж её, le général Mélinnet9, очень знаменит, что он одержал много побед, и что вообще его заслуги для французской армии и для всей Франции неоценимы.
И хотя никто не помнил такого генерала и не слыхал про его победы, однако ей охотно верили, то есть не то чтобы верили, а просто ей не возражали, не желая разуверять и раздражать старушку: ведь это было такое невинное, безвредное хвастовство…
Зато заслуги Madame Mélinnet, оказанные ею Боре, были, действительно, неоценимы. Во-первых, мальчик говорил по-французски безукоризненно, так что прямая обязанность Madame Mélinnet была выполнена в точности. Во-вторых, она прекрасно влияла на Борю нравственно: благодаря во многом ей, характер ребёнка развивался правильно, и в добрую, хорошую сторону.
Она поступила гувернанткой к Боре, когда ему шёл ещё только пятый год. Прежде няня Акулина Степановна баловала мальчика; действительно, она крепко любила его, но по-своему, слепо и неразумно: любя, она нередко исполняла его капризы. Мама не всегда имела возможность замечать это: у неё, конечно, бывали хлопоты по хозяйству, приходилось ей иногда уезжать в гости и принимать визиты, – словом, она не могла быть при Боре безотлучно; поэтому в её наблюдениях за ним случались порою пропуски.
Но приехала Madame Mélinnet – и дело пошло иначе. Надо заметить, что она была женщина образованная: поселившись у Булановых и найдя в их домашней библиотеке несколько детских книг на французском языке, она забраковала их, сказав, что эти книги она знает и что, по её мнению, читать их с Борей не стоит; одну из них она назвала даже прямо вредною и горячо доказывала, почему считает её такою. Булановы сразу увидели, какой человек поступил к ним, и порадовались тому, что за Борей будет хороший надзор.
С первых же дней они исполнились уважения и доверия к Madame Mélinnet; между ними установились дружеские отношения. По её желанию и указанию было выписано из Парижа несколько журналов и книг, так что чтения ей с Борей хватило надолго, а когда и оно иссякло, Madame Mélinnet выписала себе журнал для родителей и воспитателей и уж по нему выбирала, какие книги покупать для Бори.
Обыкновенно она читала ему, когда он сам ещё не научился грамоте; потом они шли гулять в сад или в поле, или в лес.
За садом был прелестный, молодой ещё лесок, который обыкновенно называли «поповой рощей», потому что он рос на церковной земле. Они часто садились на опушке, на краю спуска к оврагу, в глубине которого, осенённый седоватыми ивами и вётлами, извивался студёный ручеёк, пробиваясь между большими, серыми камнями. И M-me Mélinnet всякий раз говорила Боре, что это место очень напоминает ей такой же пейзаж на её родине, во Франции, где она жила ещё девочкой и где любила сидеть подолгу, прислушиваясь к пенью птиц, к стрекотанию насекомых, и смотря на синее небо и зелёную траву…
«Admirant le ciel bleu et l’herbe verte, et priant le bon Dieu»10, – заканчивала она свои воспоминания. И всякий раз Боря замечал, что её чёрные глаза были полны слёз.
Он удивлялся, почему она плакала, и спрашивал её не однажды, что с нею: здорова ли она, какое у неё горе…
Но она всякий раз отвечала ему грустным тоном: «Ah, mon petit ami! Laissons celà! Tout est passé, rien ne reviendra… Maintenant vous et votre famille – voilà tout ce que j’ai et ce que j’aime»11… Она прикладывала к влажным глазам платок, от которого всегда пахло духами Violette de Parme12, и, наклонившись к Боре, целовала его в лоб сухими, бледными губами…
Раз как-то Боря рассказал маме, что Madame часто о чём-то плачет, и спросил, что это с нею такое.
– Должно быть, это у неё тоска по родине, – ответила ему мама, – ведь если и тебя бы запрятать куда-нибудь в дальние края…
– От тебя, и от папы, и от Madame Mélinnet? – перебил Боря в испуге.
– Да. Ведь ты очень соскучился бы?
Вместо ответа, Боря кинулся к маме, обвил руками её шею, прижался щекою к её щеке и долго пробыл так. И чувствовал он, как у него у самого слёзы выступили на глазах и медленно потекли по щекам…
Тогда ещё Боря не знал, что время разлуки с папой и мамой и со всем домом понемногу пододвигается и что не за горами тот день, когда его повезут в гимназию! Его родители не хотели слишком рано говорить ему об этом; им и самим жаль было отпускать его от себя.
А пока он был при них, хорошо ему жилось. Правильные и аккуратные занятия уроками, чтением, затем прогулки, гимнастика – на дворе нарочно для него были установлены и повешены шесты, лестницы, трапеции, и разбита площадка для крокета – и, кроме того, постоянный пример на глазах, пример людей, неустанно занятых, умеющих и отдохнуть, но в меру, без лени, зевков и потягивания, – всё это развило в нём мальчика трудолюбивого, здорового и бодрого.
С другой стороны, и характер его мало-помалу выровнялся: Боря стал мальчиком добрым, вдумчивым и уступчивым. Когда только ещё приехала к ним жить Madame Mélinnet и заметила его капризы, она и не подумала потворствовать ему. Сильно невзлюбила за это старая няня Акулина Степановна «новую мадаму» – так она называла приехавшую к Булановым гувернантку. Души не чая в Боре, старушка-няня готова была сделать всё, чего бы он ни потребовал, и сердилась на Madame Mélinnet, и даже не раз пробовала грубо отвечать ей при Боре.
Madame Mélinnet видела, что так нельзя продолжать. Она пошла к его родителям и объяснилась с ними. Конечно, те немедленно согласились с нею в том, что никакого толка не будет, если одна запрещает что-либо мальчику, а другая всё-таки делает для него то, что ему не позволено. Они очень благодарили Madame Mélinnet за то, что она открыла им глаза.
Призвали няню и объяснили ей, в чём дело; ей сказали, что её очень любят, что все хорошо знают, как она сама любит Борю, что на неё никто не сердится и не жалуется, – но только для Бори пришла уже другая пора, ему скоро надо будет учиться и вся власть теперь у Madame Mélinnet: как она приказывает, так и должно быть, и никаких споров с нею не полагается, а тем более грубостей, потому что в доме Булановых никто никогда и никому не грубил.
Всё это было сказано Акулине Степановне самим Павлом Ивановичем Булановым. Он говорил спокойно и серьёзно, голос его был строг и сух, по голосу уже было слышно, что тут каждое слово обдумано и веско и что спорить и возражать на его слова не приходится.
Сказав это всё, Павел Иваныч поднялся с места, подошёл к Акулине Степановне и, положив ей на плечо руку, прибавил, но уже мягким тоном и даже с дрожью в голосе:
– Но помните, няня дорогая: мы вас очень любим. Вы очень хорошо ходили за нашим Борей. И мы это вполне ценим. Вы оставайтесь у нас, никто вас не гонит. Но только не балуйте нам Борю, не портите его. Если будете жить у нас так, как мы требуем, то доживайте у нас свой век: пока мы живы, у вас есть приют, а если помрём – Боря вас приютит…
– Что вы, что вы, барин? – испуганно перебила его Акулина Степановна. – Не грешите, барин. Зачем вам помирать! Рано вам помирать… Это нам, старым, пора на покой…
И, невнятно лепеча ещё что-то, старуха со слезами схватила руку Павла Иваныча, чтобы её поцеловать. Но тот вовремя отнял её.
Вернувшись в свою комнату, Акулина Степановна долго плакала и ворчала:
– Вот… пять лет нянчила… и всё хорошо было… А приехала эта… мадам-то… и нехороша стала… Ну, ладно, ладно!.. Ещё посмотрим, что будет-то… Цыплят-то ведь по осени считают… Посмотрим!.. А с чего кичится? Что у неё нос-то совком, так она и кичится… Знаем!.. Тоже начнёт по-своему, по-хранцузскому: хон, хон! мон, мон! сье, сье!.. мусье да мусье… Вот ещё поглядим, что будет… Как бы ещё самоё со двора не погнали… Тогда послушаем, как запоёшь…
Няня отлично знала, что Павел Иваныч никого не прогонял со двора. Но она была недовольна, что её отстраняли и сбавляли её власть, – так была недовольна и обижена этим, что долго ещё дулась на «мадаму», хотя уж не смела больше грубить ей и даже идти наперекор. Но прошли годы, и Акулина Степановна мало-помалу свыклась и смирилась, – тем более что она дурного слова никогда от Madame Mélinnet не слышала. Да и питомец её, Боря, любил её по-прежнему, относился к ней даже лучше прежнего: если раньше он ей зачастую грубил, сердился и топал на неё ногами, то теперь его обхождение со старою няней стало ровным и мягким.
Такая перемена произошла в нём, конечно, не сразу. И произошла она, благодаря, главным образом, Madame Mélinnet. Минуты грусти, когда она плакала и делала какие-то неясные намёки на своё прошлое, когда картины русской природы напоминали ей виды её родины и загоняли в её сердце тоску о прожитом детстве, о далёкой молодости, – такие минуты случались у Madame Mélinnet хотя и часто, но ненадолго: очевидно, она скоро утешалась мыслью, что живёт она у добрых людей и что, не будь Булановых, она не знала бы, куда ей деться.
Вообще же, характер Madame Mélinnet был замечательно ровный: ко всем она была приветлива, добродушна, постоянно и одинаково добра; настроение духа её было всегда весёлое, но и весёлость её была ровная, словно знающая себе меру, – это была только весёлость, но не веселье. Немудрено, что, видя пред собой ежедневно, в течение нескольких лет, человека, который ни разу не вспылил, не вышел из себя, никому не сказал хотя бы только колкого слова, – Боря и сам незаметно для себя самого приобрёл ту же ровность характера, сделался добрым, уступчивым, приветливым.
Всё это, конечно, видели Борины родители. Они высоко уважали и ценили Madame Mélinnet. Их отношения к ней были точно как к родной. Недаром Павел Иваныч часто называл её ma tante13.
Действительно, она жила у них в доме точно старая и любимая тётенька. Случалось, что с нею пошучивали, но шутки эти всегда были самые добродушные и потому ничуть необидные. Вот подают за обедом гречневую кашу. Лежит она на широком блюде рассыпчатою горой. Подносят её Павлу Иванычу. Он берёт ложку, подставляет свою тарелку к блюду и прямо через край его ссыпает на неё кашу, так что у него на тарелке образуется также порядочная горка.
Madame Mélinnet в удивлении. Всплеснув руками, она восклицает:
– Sapristi, Monsieur Boulanoff! Comment pourrez vous manger tout celà14?
– Крестись, крестись, француз! А кашу-то я всё-таки съем, – говорит Павел Иваныч себе под нос.
Все хохочут. Не смеётся одна только Madame Mélinnet: она ни слова не знает по-русски, не поняла она и того, что только что сказал Павел Иваныч. В удивлении она спрашивает, чему все смеются. Ей объясняют, – и она принимается хохотать вместе с другими. И всё-таки уверяет, что у неё, когда она поест русской каши, всегда болят челюсти.
– А вот если бы вы, Madame Mélinnet, побыли с пяти часов утра на поле, да ещё под дождём, наверно тогда съели бы столько же, и челюсти бы не болели, да ещё бы попросили… Иван, подай-ка мне ещё кашки, – говорит Павел Иваныч.
– Encore15?! – с ужасом восклицает Madame Mélinnet, увидев, что Иван опять подаёт блюдо Павлу Иванычу.
– Анкор, анкор, – подтверждает шутливым тоном Павел Иваныч.
И на его тарелке опять уже образуется горка.
В это время недоумевающей Madame Mélinnet переводят, что Павел Иваныч только что сказал по-русски относительно поля, пяти часов утра, дождя и челюстей. Буланов вообще не любил говорить по-французски, хоть и умел немножко; но он часто затруднялся в оборотах и отдельных словах и поэтому предпочитал говорить с Madame Mélinnet по-русски, но чтобы кто-нибудь переводил его слова. Услышав о поле и дожде, Madame Mélinnet начала восхвалять Павла Иваныча и Софью Егоровну, уверяя, что она нигде не видала такого образцового хозяйства, хоть и много лет уж прожила на свете.
– Mais vous n’êtes pas encore vieux, Madame16, – вдруг выпаливает Павел Иваныч.
– Vieux? Vielle, Monsieur17, – поправляет его старушка.
– Да, да, да… Вот дёрнет нелёгкая!.. Скажешь два слова, и те переврёшь…
Сказав это, Павел Иваныч взял со стола бутылку с хересом, на которой был ярлык с надписью: «Xéres, très – vieux»18. Он отлепил ярлык и оторвал название вина, так что на бумажке осталось только «très – vieux». Живо лизнув обратную сторону ярлыка, он прилепил его себе ко лбу. Не все сразу заметили это. Madame Mélinnet первая увидела надпись на лбу «très – vieux» и долго от души хохотала этой шутке.
– Вот, ma tante, – сказал Павел Иваныч, – je, действительно, vieux, но vous нет19.
– «Je – vieux» – не говорят, Monsieur, – «je suis vieux»20, – поправила старушка и, налив себе в стакан немного красного вина, разбавила его водой.
– Ну, а теперь пора и за дело приниматься. Иван, скажи-ка, чтоб мне бегунки поскорей запрягли, – говорит Павел Иваныч, вставая из-за стола, – а я пойду с полчасика вздремну. Благодарю, Сонечка, за обед.
Поцеловав руку Софьи Егоровны, он отправляется отдохнуть, пока ему запрягут лошадь. А когда подадут ему беговые дрожки, он сядет на них и опять до позднего вечера уедет в поле; потом вернётся и до поздней ночи просидит у себя в кабинете над книгой, журналом или над каким-нибудь научным опытом.
Так, в постоянной работе и неизменных хлопотах, а иногда в скромных удовольствиях и шутках, протекала жизнь в Булановке.
Боря подрастал. Стукнуло ему уже десять лет. День рождения его как раз приходился в день именин, то есть 24 июля. Этого числа он, конечно, уж не учился. Его с утра принарядили в голубую шёлковую рубашку с серебряным позументом21 на вороте и рукавах, в плисовые22 шаровары и новые козловые сапоги23.
Папа не поехал ни в уезд, ни в поле.
– Сегодня твой день, – сказал он Боре, когда тот пришёл к нему поздороваться, – твой десятилетний юбилей. И тебе посвящаю я всё своё время сегодня. Мы пробудем весь день вместе.
– Мерси, папочка, – сказал Боря, весь просияв, и поцеловал отца.
Очень шла голубая рубашка к его полному, здоровому личику с ясными голубыми глазами. Павел Иваныч невольно залюбовался им. Потом, помолчав, сам поцеловал его в щеку и стал перечислять ему, сколько он для него удовольствий придумал на этот день.
– Прежде всего, несомненно, помолимся Богу. Я просил отца Христофора отслужить обедню. А когда вернёмся из церкви, будем праздновать и веселиться.
С радостью слушал Боря, что обещал ему папа. За обедом будет шампанское, а когда начнут его пить, выстрелит пушка. Папа нарочно купил в городе маленькую пушку. После обеда – катание. Все поедут в колясках и долгушах24, а Боря – верхом. Отправятся они в Сытинскую рощу и будут там пить чай. К обеду приглашено много гостей: все соседи, с детьми. Вечером будут фрукты, мороженое, любимое Борино – ананасное; но что всего интереснее – будет фейерверк. Боря ни разу в жизни ещё не видал фейерверка, а сегодня увидит. Вот и все удовольствия.
Впрочем, есть и ещё какое-то, но про него папа сказал, что это – секрет и что он откроет его за обедом, потому что ему раньше надо повидаться и поговорить кое с кем.
Интересно знать, что это за секрет?
6
Сосуд грушевидной формы с длинным отогнутым в сторону горлом для нагревания и перегонки веществ.
7
До революции воспитательница в дворянских семьях, обычно иностранка, нанимаемая для воспитания и начального обучения детей.
8
Мадам Мелиннет (фр.)
9
Генерал Мелиннет (фр.)
10
Любуясь голубым небом и зеленой травой, и молясь Богу (фр.)
11
Ах, мой мальчик! Давайте оставим это! Все прошло, ничего не вернется… теперь вы и ваша семья – это все, что у меня есть и что мне нравится (фр.)
12
«Пармские фиалки» – знаменитые в прошлом женские духи.
13
Моя тетя (фр.)
14
Черт возьми, месье Буланов! Как вы можете съесть все это? (фр.)
15
Еще?! (фр.)
16
Но вы еще не стар, мадам (неправ. фр.)
17
Стар? Стара, месье (фр.)
18
Херес, очень старый (фр.)
19
Комбинированная фраза с русскими и французскими словами: «Вот, моя тётя, я действительно стар, а вы нет».
20
Я стар (фр.)
21
Позумент – золотая, серебряная или мишурная (медная, оловянная) тесьма; золототканая лента, обшивка, оторочка.
22
Плис – ткань с длинным ворсом, выполненная в бархатной технике и похожая на плюш.
23
Сделанные из кожи козла.
24
Долгуши – род длинного экипажа, вроде линейки, легковой конной повозки на четырех человек.