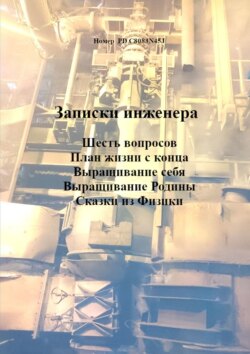Читать книгу Записки инженера. Шесть вопросов. План жизни с конца. Выращивание себя. Выращивание Родины. Сказки из физики - Номер PD C8083N45J - Страница 29
Часть 1. На своей земле
14. Спецоперация «Мастер и Маргарита»
ОглавлениеПишу по памяти смесь того, что Август Вулис рассказывал нам позже у костра, и выборки из оригинального текста Давида Эйдельмана об этой истории (https://davidaidelman.livejournal.com/1015828.html).
В мои детские годы я знал Августа Вулиса с другой стороны. Вулис был молодым, стройным, загорелым. Водил по нашим предгорьям группы студентов. Мы встречались на стоянках, пересекались на тропах. История про «Мастера и Маргариту» развивалась в параллельном, неизвестном мне тогда мире.
…Вулис был ташкентским аспирантом, который выбрал темой диссертации советский сатирический роман 30-х годов и искал материал. Он прочитал фельетоны Булгакова. Прочел «Роковые яйца». И подумал, что Булгаков (предположительно) мог написать и сатирический роман.
Вулису стало известно, что вдова писателя еще жива. Он отыскал ее номер и позвонил.
– Добрый день… Я ташкентский литературовед… Только что познакомился с повестью… «Роковые яйца». Судя по этому произведению, Булгаков тоже, как и авторы «Золотого теленка», – талантливый писатель, хотя, понимаю, моя оценка может показаться вам преувеличенной. И вот мне сдается, что после Булгакова должны были остаться интересные рукописи…
Елена Сергеевна уточнила для себя:
– Скажите, пожалуйста, вы состоите в Союзе писателей?
– Состою. Два года назад принят, – ответил Вулис с гордостью.
– Значит, вы состоите членом Союза… Может быть, вы один из тех, кто ровно ничего не делает, чтобы воздать должное памяти великого русского писателя Булгакова. Не печатает сочинений Михаила Афанасьевича…
Вулис пробормотал извинения, а отказ принять его воспринял как должное.
Потом позвонил еще раз. Елена Сергеевна отнеслась к нему с недоверием, видимо приняв за кагэбэшного осведомителя, и строго сказала, что Булгаков сатирических романов не писал, только философские.
Елена Сергеевна, которую считают прообразом Маргариты, которая сама себя иногда называла Маргаритой, много раз пыталась пробить роман. Она заводила нужные знакомства, спала с нужными людьми, имела роман с самим Фадеевым, но роман не продвинулся ни на миллиметр к публикации.
Она работала машинисткой, брала халтуру на дом, пыталась зарабатывать переводами. Она боялась, что роман выкрадет КГБ; она опасалась, что если кто-нибудь скопирует роман или хотя бы главу из него, то это могут издать за границей, а у всех была на памяти история с нелегально изданным романом «Доктор Живаго» Пастернака. Елена Михайловна знала, что нет никакого шанса, что роман опубликуют в СССР.
С Вулисом встретилась неохотно. Сначала на лестничной клетке. Он попытался наладить общение. Но до рукописи романа «Мастер и Маргарита» она его сразу не допустила.
Позже сказала:
– Это я должна спросить у Миши…
В следующий визит Вулиса она вручила ему рукопись.
– Миша разрешил.
Но читать разрешила только в ее квартире. Ежедневно перед выходом Вулис показывал ей собственные записи, чтобы, не дай бог, в них не было какого-нибудь цельного фрагмента. Пару раз она закатывала скандалы, когда ей казалось, что цитаты слишком большие.
Потом они начали обсуждать. Вулису роман понравился. Он стал читать другие произведения. Предложил попытаться издать что-то в Ташкенте.
В Ташкент Вулис возвратился, везя в портфеле несколько неизданных произведений Михаила Афанасьевича Булгакова. «Записки покойника» он отнес в журнал «Звезда Востока», пьесу «Иван Васильевич» – в местный театр. То была уникальная эпоха первоизданий. Воспользовавшись «оттепелью», оставшиеся в живых родственники доставали из сундуков уцелевшие произведения своих запрещенных, посаженных, расстрелянных отцов, матерей, братьев.
Зачастую провинциальные журналы оказывались смелее столичных и решались публиковать то, что в Москве и Ленинграде не проходило. Но и журнал, и театр в Ташкенте от Булгакова отказались. Очень трудно признать руку мастера, если об авторе неизвестно точно, что он Мастер, а под произведением не висит соответствующего ярлыка, гласящего, что это шедевр.
Впервые «Мастер и Маргарита» упомянут в кандидатской диссертации Вулиса. Август Вулис был человеком, который рассказывал о романе всем знакомым, водил к Елене Сергеевне людей, чтобы они прочитали рукопись. Содержание романа было изложено в диссертации очень подробно. И он, и Елена Сергеевна посчитали это необходимым именно потому, что роман оставался неопубликованным. На основе диссертации была издана литературоведческая монография. Книжка Вулиса печаталась в Ташкенте, и когда ее доставили в Москву, он поспешил на Суворовский бульвар.
– Это чудо! – восклицала Елена Сергеевна. – Это просто чудо! Это все штуки Воланда!
То, что Вулис был простым советским человеком из Ташкента, а не эстетом, снобом и литературным гурманом – это счастливый факт в литературной судьбе «Мастера и Маргариты».
Позже, когда поднятая Вулисом волна уже привела к напечатанию «Театрального романа» Булгакова в журнале «Новый мир», Елена Сергеевна стала чаще пускать к себе людей ознакомиться с книгой. В частности, прочли роман и «ахматовские юнцы», молодые поэты. Никому из них, включая Бродского, книга не понравилась.
Ахматова называла Булгакову «образцовой вдовой», то есть делавшей для сбережения и утверждения памяти мужа все, что было в ее силах. Ахматова рассказывала о преданности этой молодой, красивой, избалованной женщины полуопальному, а потом смертельно больному мужу.
Ахматова говорила:
– Ладно, что она его вдова, но вам хоть понятно, что она Маргарита?
Ташкент не был для Анны Андреевны чужим. С 41-го по 44-й год она написала в нашем городе многие замечательные строки. Анна Ахматова, Константин Симонов, великий князь Николай Константинович Романов и другие – это часть истории и культуры Ташкента.
Роман Булгакова напечатать было бы нельзя, если бы не еще одно обстоятельство, связанное с Ташкентом. В 1958 году Константин Симонов был снят с должности редактора «Нового мира» и отправлен в Узбекистан собственным корреспондентом «Правды» по Средней Азии.
В Узбекистане к автору «Жди меня» относились как к живому богу, сброшенному с Олимпа на грешную землю. «Божество» было очень доступным и компанейским.
– Когда есть Ташкент, – мрачно, но с мужественным достоинством шутил Симонов, – незачем уезжать на семь лет в Круассе, чтобы написать «Мадам Бовари».
В Ташкенте Симонов писал «Живые и мертвые» и «Солдатами не рождаются». И охотно дружил с молодыми журналистами. Среди которых был и Вулис. Вулис пригласил Симонова на защиту своей диссертации. Самого! Все были поражены. Неприятно поражены.
Симонов пришел на защиту провинциальной диссертации, появившись в зале ровно за минуту до начала процедуры. Константин Михайлович во время обсуждения попросил слова и своим раскатисто-картавым говором произнес какие-то ободряющие слова, дал нужные советы и напутствовал храброго исследователя.
К чести Симонова надо сказать, что друзей своих он не забыл и когда его вернули в Москву. Симонов заинтересовался, прочитал роман «Мастер и Маргарита» и стал его горячим поклонником. Так постепенно создавалась общественная атмосфера принятия романа. Становилось все более необъяснимо, почему произведение, о котором все кругом говорят, не печатается до сих пор. Стали выходить другие произведения Булгакова. Вышел том драматургии. Сама Елена Сергеевна стала получать заказы из издательств на переводы с французского.
И наступил день, когда Вулису передали: «Свяжитесь с Поповкиным. Он хочет с вами переговорить». Поповкин возглавлял журнал «Москва». «Толстый» журнал – он был, как бы это сказать, не первого класса. Негласно приравнен к «местным» – региональным, провинциальным «толстым» журналам, вроде той же «Звезды Востока», «Литературной Молдавии» или «Байкала». Поповкин решил печатать «Мастера и Маргариту». Он прочитал монографию Вулиса, которую энтузиасты подсовывали всем кому можно. В монографии Булгаков был «о-го-го» каким советским. Вулису заказали предисловие.
Телефонная будка, в которой Август-Авраам Вулис обсуждал возможное издание романа, показалась ему сказочной каретой, мчащейся в те дали, где в вечном покое пребывают Мастер и его возлюбленная.
По неписаным правилам того времени подобные публикации должны были обставляться предисловиями, или послесловиями, или идеологически правильными комментариями. Делалось это с целью не столько просветить читателя, сколько притупить бдительность недоверчивых чиновников из ЦК КПСС. Читателю, дескать, будет разъяснено, что роман «Мастер и Маргарита» не «против советской власти», а «о другом». Вулис прекрасно понял, чего от него хотят.
Дальше начался финальный этап битвы за роман. Было намерение дать в журнале лишь первую, менее сложную часть романа, оправдав сокращение формой подачи: из архивных материалов. Было решено, что предисловие Вулиса будет послесловием, а представить читателям журнала Булгакова должен «генерал» Константин Симонов.
Симонов – это все-таки сила, и в глазах цековских работников его имя звучит убедительно.
– А ваше предисловие, – сказал Поповкин, чтобы как-то утешить Вулиса, – мы дадим как послесловие.
Редакция решила первую часть романа выпустить в одиннадцатом номере журнала за 1966 год. Тактика: напечатать, залечь и обождать. Поглядеть на реакцию начальства. И, если все сойдет благополучно, окончание романа дать в первом номере за 1967 год.
Ну а если реакция будет неблагоприятной? И вторую часть романа опубликовать не удастся? Тогда послесловие Вулиса тоже не увидит света и труд его пропадет втуне? Вроде бы неловко перед ним… И на редколлегии было принято соломоново решение: первую часть романа «обложить» и предисловием, и послесловием!
Вот, собственно, и всё. Так появился в печати «Мастер и Маргарита». Роман вышел с огромными купюрами, цензурными исправлениями и искажениями. При публикации романа в журнале «Москва» Е. С. Булгакова подписала все купюры. Это был совет К. М. Симонова: главное – выпустить роман в свет, в любом виде.
А потом роман был полностью передан для публикации за границу через советское акционерное общество «Международная книга».
«Роман о Понтии Пилате.
Тут опять закачались и запрыгали язычки свечей, задребезжала посуда на столе, Воланд рассмеялся громовым образом, но никого не испугал и смехом этим не удивил. Бегемот почему-то зааплодировал.
– О чем, о чем? О ком? – заговорил Воланд, перестав смеяться. – Вот теперь?
– Это потрясающе! И вы не могли найти другой темы? Дайте-ка посмотреть. – Воланд протянул руку ладонью кверху.
– Я, к сожалению, не могу этого сделать, – ответил Мастер, – потому что я сжег его в печке.
– Простите, не поверю, – ответил Воланд, – этого быть не может. Рукописи не горят. – Он повернулся к Бегемоту и сказал: – Ну-ка, Бегемот, дай сюда роман.
Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой пачке рукописей. Верхний экземпляр кот с поклоном подал Воланду. Маргарита задрожала и закричала, волнуясь вновь до слез:
– Вот она, рукопись!»
Такие истории можно было услышать в те времена у костра в Чимгане. Женя Егоров пел тогда задушевную китайскую песню «Лишь солнце восходит над речкой Хуанхэ…», которая Августу-Аврааму Вулису очень понравилась.