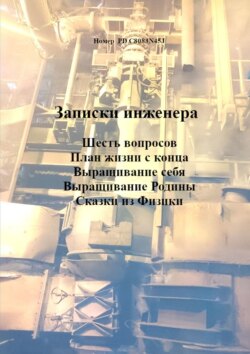Читать книгу Записки инженера. Шесть вопросов. План жизни с конца. Выращивание себя. Выращивание Родины. Сказки из физики - Номер PD C8083N45J - Страница 48
Часть 3. Записки инженера
33. Отчет. 1976—1996
ОглавлениеВеликие физики редки и в годы учебы редко проявляются. Коренные преподаватели на физфаке сразу замечают, кто что может от природы, говорят между собой об этом, а дальше путь по удаче и по труду. Дети, молодые люди имеют неразвитый софт в голове, софт развивается под воздействием внешних впечатлений – в результате они идут с кем-то, за кем-то; не логика, а впечатления формируют софт и путь.
Из физики я при распределении ушел. На производство. В смесь металлургии и энергетики. Сразу на 5—10 рублей больше получал, чем однокурсники! Приняли меня с опаской – физику технари плохо знают. Что за птица прилетела? Сказали: не переживай, найди себе что-то – и мы тебя сразу отпустим, не дожидаясь трех лет.
Чтобы не болтался, дали задачку. Которую специальный человек – Геннадий Злацин, лучший от природы и природой специально для расчетов созданный, – почему-то не решил. Это про большие, мощные установки. Может, Геннадий за ерунду задачку посчитал, как задачу о мухе и иные. Не знаю.
Даже слов я таких не знал, какие нужно было знать для решения. Но библиотека в фирме была уникально обширной, а главное – доступной: броди между полок с книгами, ищи, что тебе нужно. Через месяц как-то освоился и принес первое решение. Мудрый начальник сказал: «Так я и знал». Ошибка раз в десять. Или в сто. А допускается в той области ошибка в 1—2 процента.
Поправился. Решил. Нужно было высокотемпературный факел представить как тело с твердой стенкой, которая отталкивает струи, охлаждающие камеру сгорания. Тогда решение получалось. Это было новым. Так бывает у дилетантов, ничего не знающих.
Начальство стало сомневаться в моей полной бесполезности. Так и пошло. Хотя приживался я непросто. Миша Мансуров помог, светлая ему память – внуку Ленина. Он кратко сказал: «Первые шесть месяцев нужно просто перетерпеть, потом начнешь что-то понимать – и начнет нравиться».
Чтобы втянуться, требовалось все книги по технике и теории горения прочесть, по металлургии, по энергетике, теплообмену и т. п. Так я и делал. Смотрел в каждой книге список литературы, на которую автор ссылается; если не знал каких-то книг, то находил и читал. Этому я у академика Джорджио научился. Помните его?
Умение рисовать тоже пригодилось – при вычерчивании машин, установок и цехов.
Фирма была сильной, уникальные люди там работали, тендеры у Москвы и Питера выигрывали. Отец Ильяса там работал у изотопщиков, этажом ниже нас. Мне и сейчас часто это здание и люди снятся. Как счастливое время. Время ясности.
Стал замечать, что родители косовато на меня поглядывают. Единственный сын двух ученых – и даже не кандидат. Стыдно стало. Стал прибиваться к научным берегам. С третьей попытки прибился. Первый раз руководитель умер – Померанцев В. В., гений в теории и практике горения, научная школа и т. д. Потом при поступлении в аспирантуру на экзамене по истории КПСС меня провалили. Это при всех сданных минимумах. Учил я эту историю две недели, первый раз в жизни. Но вышло так, что мой логичный, как казалось, взгляд на съезды и решения недопустимо отклоняется от официального взгляда.
Третий раз меня занесло в тонкие химические технологии. Под этим скрывается «военка». И немного физическая химия, где через квантовые уравнения для атомов к молекулам новых соединений пытаются перейти. Но колючей проволоки больше. Двойное оцепление закрытых заводов – «почтовые ящики» они назывались, – охрана, допуски и т. п. Внутри еще раз так же – вокруг совсем уж закрытых цехов. Поэтому и вырвались у меня в переписке слова «из советской клетки». О ней я имел ясное представление.
Лаборатории закрытых заводов были очень хорошо оснащены, значительно лучше многих институтов. Марина очень мне помогла у себя в Институте материаловедения. В Институте химических технологий мне термографию (ДТА) делали. Между научными работниками все было очень демократично, я предлагал, но денег с меня не брали.
Перестройка не была для нас потрясением. Мы к тому времени давно уже государственную зарплату не получали. Работали по договорам. Что заработаешь, то и будет на столе у детей. Даже лучше стало. Мы могли теперь с любыми заводами работать, не только с цветной металлургией. Появились производственные цеха, которые на нас работали, монтажные бригады.
Как я понял из переписки однокурсников, у многих были тогда трудности с работой, а я постоянно сотрудников искал, не хватало специалистов. Специалисты уезжали: кто в Израиль, кто в Германию, кто в Америку, остальные в Россию. Оставшиеся боялись сложных задач, которые раньше ложились на их старших коллег. Несмотря на это, мы были одной из немногих инженерных фирм, стабильно плативших зарплату, индексируя по ценам на продукты. Вокруг многое разваливалось и разворовывалось. Постоянно менялись налоговые законы, у предприятий не было денег. Все хотели расплатиться продукцией – бартер. Он был уголовно наказуем.
Тогда судьба улыбнулась мне во всю ширь своей физиономии. В аэропорту я встретил Семена – одноклассника, с охраной, защищавшей его могучий научный и деловой мозг. Семен был интегрирован в узбекскую, скажем так, организацию дел. Он «со товарищи» отвечал за первые 10—15 кварталов Чиланзара.
Узбекистан не Россия, у нас на улицах не стреляли – договаривались в чайхане. В этом вековая мудрость узбекского народа. Семен забирал у меня всё: электролампочки, цемент, шифер, минеральную вату, керамику, трубы и т. д. Фурами и вагонами. Продавал все это по рыночным ценам, мне платил по государственным – в два-три раза меньше, но это было счастьем. Инженерные расчеты и торговля не уживаются под одной крышей.
Жизнь была тогда живой, как никогда до этого и почти никогда после. Мы были на своей земле.