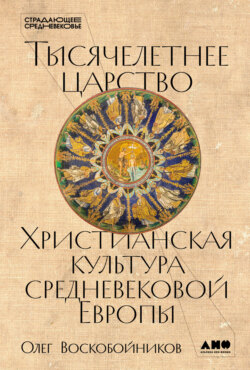Читать книгу Тысячелетнее царство: Христианская культура средневековой Европы - Олег Сергеевич Воскобойников, Олег Воскобойников - Страница 2
Предисловие
ОглавлениеПервую версию «Тысячелетнего царства» я опубликовал десять лет назад. Генетически она восходит к моим университетским конспектам середины 1990-х гг. Тогда я учился в МГУ на кафедре истории Средних веков, слушал лекции М. А. Бойцова, А. Я. Гуревича, Г. Г. Майорова, Г. К. Косикова, О. С. Поповой, А. А. Сванидзе, О. И. Варьяш, Л. М. Брагиной, С. П. Карпова и других замечательных педагогов. Едва ли не половины из них уже нет с нами. На рубеже тысячелетий я поехал в Париж и учился там в Высшей школе социальных наук (EHESS) в группе исторической антропологии, созданной Жаком Ле Гоффом. За несколько лет в моей жизни возник парижский круг общения – как с живыми классиками, так и с такими же начинающими медиевистами, как я, многие из которых теперь сами ходят в профессорах на трех континентах. Двадцать пять лет я провел, преподавая сначала на родной кафедре в МГУ, потом, до совсем недавнего времени, в Высшей школе экономики. Всем трем моим университетам, учителям, коллегам, друзьям я многим обязан, обязана и лежащая сейчас перед читателем книга.
Нас с самого начала учили концентрироваться на малом. Любое обобщение позволялось лишь в рамках введения какого-то конкретного события, текста или образа в исторический контекст. К счастью, как я сейчас понимаю, никому из моих учителей не приходило в голову давать мне задание написать эссе, скажем, о Крестовых походах, немецком романтизме или древнерусской живописи XV в. Из нас растили эмпириков, и всякую мысль мы должны были подкреплять, во-первых, историческим источником, во-вторых, мнениями исследователей, которые высказывались по поводу заинтересовавшего нас текста или изображения. Эта исследовательская матрица проста и понятна, более того, она ничем не отличается от французской научной модели, с которой я познакомился в Париже, а потом в лондонском Институте Варбурга. Четвертое (и, видимо, последнее) поколение «Анналов» – Жан-Клод Шмитт, Мишель Пастуро, Жером Баше – в университетских классах оказались такими же «занудами», как мои московские учителя. Мы медленно читали и комментировали латинские тексты, так же медленно описывали и анализировали памятники средневекового искусства.
Но как написать книгу о средневековой культуре, если руководствуешься инстинктом любое высказывание подкреплять сноской и желательно исчерпывающей библиографией на семи языках? Любой мой коллега поймет, что список источников по выбранному мной сюжету будет не более чем выборкой из моих собственных исследовательских и литературных пристрастий. Десять лет назад я решился опубликовать амбициозную книгу с довольно куцым, пусть и семиязычным, аппаратом. С тех пор многое изменилось и в науке, и во мне. Выпустив несколько поколений медиевистов в созданной мной в НИУ ВШЭ магистратуре «Медиевистика», ныне переименованной и перекроенной, я решил, что должен все же требовать от себя того же, чего мы ждали от наших «медьевалят». Зануда зануден во всем: сев в 2024 г. за текст 2014 г., я понял, что слишком многое нуждается в пересмотре. Дело не только в дюжине ошибок и описок, которые следовало исправить, а в изменении моих собственных навыков, приемов, моей картины мира. Что-то в старом тексте мне сегодня показалось избыточным, что-то – недосказанным. Ровно посередине, в 2017–2018 гг., лежит моя докторская диссертация о разных аспектах культуры Запада XI–XIV вв., а также десятки статей и переводов средневековых текстов. Короче, обычная жизнь университетского медиевиста. Всем этим мне захотелось поделиться с моим читателем – получилась почти новая книга.
Из прежнего, конечно, сохранилась общая канва повествования, отчасти хронологическая, отчасти тематическая. Сохранился почерк: я всю жизнь изучаю тексты и изображения, созданные в Средние века, но не только. Описание и анализ памятников соседствуют с разбором конкретных мест из конкретных текстов. Я многое перевожу сам, потому что перевод по определению – трактовка. Но труд переводчика для меня свят, поэтому, когда существует добротный перевод, сделанный кем-то еще, я считаю своим долгом приводить именно его. Это значит, что я соглашаюсь с его формой и смыслом и готов строить на нем свое здание. Тешу себя надеждой, что за прошедшие несколько лет немного поднаторел в переводе как прозы, так и поэзии, хотя и не мне судить о том, насколько это удается. Подчеркну главное: для меня в том, что и как переводит медиевист, и состоит его метод. Точно так же, говоря о памятниках искусства, в основном в моих фотографиях, я иногда позволял себе довольно пространные описания, чтобы читатель не воспринимал их просто как сопроводительные иллюстрации: их функция в этой книге совсем иная. Как и с текстами, их подбор – дело сугубо индивидуальное, следовательно, субъективное. Здесь есть шедевры, есть произведения, почти никому не знакомые. Степень их репрезентативности для раскрытия темы на моей совести.
И последнее из сохраненного от первого издания. В этой книге множество отсылок к современным реалиям, даже к тривиальной трамвайно-кухонной повседневности России и Запада. Этот прием читатель волен толковать как реверанс себе (captatio benevolentiae), возможно, он отнесется к моему кокетству со вполне объяснимой иронией. Прием этот отчасти оправдан опытом преподавания в университетах и школах нескольких стран, возможно, моей нынешней работой в образовательном проекте «Страдариум». Просветительство для меня не пустой звук, но я не понаслышке знаком со всеми его сложностями и опасностями. Рассуждая о высоких материях, я как минимум должен разбудить любопытство слушателя или зрителя, отвлечь его от телефона. Лишь тогда загорится искра непраздного любопытства, состоится искомый «диалог эпох». Стараясь честно описать Средневековье на его собственном языке, я понимал, что говорю на языке моего поколения, далеко не всегда совпадающем с языком моих слушателей, сверстников обоих моих детей. Многое пришлось закавычивать, не только цитаты, но и, казалось бы, простые, привычные нам слова. Тем не менее я старался избегать специфической терминологии, ища путь к сердцу не только коллеги-историка, философа, искусствоведа или филолога, но и всякого любознательного читателя, привычного к современной гуманитарной литературе.
Май 2025 г.