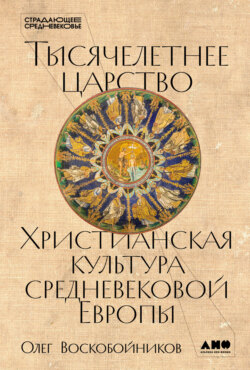Читать книгу Тысячелетнее царство: Христианская культура средневековой Европы - Олег Сергеевич Воскобойников, Олег Воскобойников - Страница 5
Средневековье:
Образ культуры и культура образа
Средневековый человек?
ОглавлениеТрудно себе представить, что в XIII в. все жители, скажем, славного французского города Шартра, входя во вновь отстроенный после пожара собор, смотрели на его огромные витражи и понимали их одинаково. Одни и те же образы понимались их заказчиками, творцами и зрителями совершенно по-разному. Точно так же, слушая «Песнь о Нибелунгах», в целом популярную, монах из Южной Германии, где «Песнь» сложилась, или любой другой клирик того же XIII столетия испытывал не те же чувства, что его современник из рыцарского сословия. Крестьянин же вообще вряд ли понял бы, зачем обо всем этом рассказывать, – у него хватало забот. Действительно ли Средневековье стремилось к некоему «синтезу», как это представлялось некоторым историкам сто лет назад?
Поставим вопрос прямо: существовал ли вообще средневековый человек? Или следует говорить отдельно о мировоззрении средневекового купца, клирика, рыцаря, горожанина, короля, нищего, монаха, пахаря, папы римского, императора? Мы увидим, сколь непроходимая пропасть могла разделять их мнения по одному и тому же вопросу. Но ситуация мало изменилась: возможна ли история современного европейца? Или современного россиянина? Средневековое общество, как и всякое другое, было обществом неравенства, и, в отличие от нашего, у него не было таких более или менее действенных культурно уравнивающих средств, как интернет, цензура или система обязательного образования. В этом обществе можно было найти лишь одну «амфибию»: это святой[15].
Разница в мировоззрении сословий сказывалась зачастую сильнее, чем в наши дни, она была как бы заложена от рождения, а если человеку удавалось повысить свой статус, то кардинально менялась и его система жизненных координат. Монах графского рода, будь то отданный в монастырь в детстве облат или принявший постриг в сознательном возрасте, мыслил и действовал не так, как остальные члены его линьяжа, оставшиеся в миру, даже не порывая связей с ним. Впрочем, и нынешняя элита, даже от сохи, становясь элитой, обязана отказываться от ценностей сохи и принимать новые для себя правила игры. Пассажир «роллс-ройса» будет стоять в пробке, ибо ему негоже спускаться в метро.
В Средние века бо́льшая часть населения, в том числе политической и экономической элиты, за исключением клира, тоже неровно образованного, не умела писать и читать даже на родном языке, не говоря уже об основном языке культуры – латыни[16]. Чего же стоят для исследования коллективной психологии и культуры письменные и иные свидетельства, созданные по большей части клиром, доля которого не превышала 2–3 % населения? Но так ли высока доля пишущих для широкой аудитории и для потомков сегодня, в современной западной или русской культуре? Предположим, соборы Шартра или Реймса, с их витражами и сотнями статуй, – интеллектуальная энциклопедия Средневековья, как любят вслед за авторитетными историками искусства повторять учебники. Здесь мы найдем человеческую историю, космос, этические и эстетические ценности, зерцало природы, богословие, политические идеалы. Но эту энциклопедию мы можем прочесть, лишь вооружившись биноклем и знанием богословских и иных текстов. У средневековых людей не было биноклей, и даже очки, это минимальное подспорье для глаз, ослабленных чтением при свече и факеле, появились лишь в конце XIII в. и долго оставались предметом роскоши. Что видели средневековые люди под 40-метровыми сводами соборов, там, где средневековый дух, в прямом и переносном смысле, достигал своих высот? Собор, оставаясь самым заметным свидетельством о средневековой цивилизации, не дает ее коллективного портрета. Слишком просто приписать его риторику и образность тем, для кого он строился, – безмолвствующему большинству. Но это большинство не призвано было все и вся понимать, но восхищаться и платить. Более того, не только толпа, но и власти предержащие по большей части стояли ненамного выше в интеллектуальном плане и понимали в хитросплетениях витражей немногим больше, чем их простой крестьянин.
Не приписываем ли мы, современные зрители и читатели, новые смыслы и значения тем символам, которые наши давние предки не могли различить из-за слабости зрения или образования, а то и просто из-за отсутствия интереса? Ведь религиозный средневековый человек чаще всего в повседневной жизни был, как и наш современник, глубоким материалистом, вовсе не склонным витать в облаках. Это не значит, что он не умел мечтать или что нам запрещается помечтать под сводами собора, воображая себе, что твой Шатобриан в 1800 г., как эти каменные леса выросли из рощ галльских друидов[17].
Однако «история – наука о человеке, о прошлом человечества, а не о вещах или явлениях. Да и существуют ли идеи вне зависимости от людей, которые их исповедуют? Ведь идеи – это всего лишь одна из составных частей того умственного багажа, слагающегося из впечатлений, воспоминаний, чтений и бесед, который носит с собой каждый из нас. Так можно ли отделить идеи от их создателей, которые, не переставая питать к ним величайшее уважение, беспрестанно их преобразуют? Нет. Существует только одна история – история Человека, и это история в самом широком смысле слова»[18]. Что имел в виду Люсьен Февр, говоря о человеке, то с маленькой буквы, то с большой, то в единственном числе, то во множественном? Что важнее: «неясные движения безымянных человеческих масс, обреченных, образно выражаясь, на черную работу истории» или «руководящие действия известного числа так называемых “исторических фигур”, выделяющихся из этой серой массы»? Этот вопрос лежит в основе таких великих литературно-исторических полотен XIX в., как «Замогильные записки» Шатобриана и «Война и мир». Он же – главный в «Боях за историю», одном из замечательных памятников исторической мысли первой половины XX столетия. Он же вызывал оживленные дебаты в наших академических аудиториях 1990-х гг.
Затишье последних лет не говорит о том, что вопрос решен. А мне просто нужно определить, о ком пойдет речь. Я предлагаю считать, что средневековый человек очень во многом отличается от нас, однако он интересен тем, что эта его непохожесть парадоксальным образом нам близка, актуальна и многое может объяснить в том, что происходит с нами сейчас. Мы должны очень осторожно обобщать мнения, высказанные отдельными авторами, или образы, созданные отдельными художниками, до уровня коллективной психологии, некоего «народа», пусть даже объединенного под эгидой одной религии или одного трона. Ни Фома Аквинский, с его 16-томным собранием сочинений, ни Данте с его «Комедией», вобравшей в себя все и вся, не отвечают ни за все Средневековье, ни за всю схоластику, ни за всю Италию, ни за всю поэзию. Любое общество говорит на разных языках или, если угодно, понимает по-разному одни и те же слова и выражения. Поэтому и средневековый человек станет предметом нашего исследования не как идеальный тип, но как член общества, одновременно объединенного общими интересами, надеждами, желаниями – и раздираемого конфликтами, ненавистью, страхами. Духовное наследие этого общества, всякий документ прошлого, по одному из самых замечательных бахтинских выражений, сказанных по совсем другому поводу, есть «стенограмма незавершенного и незавершимого спора»[19].
Вслед за Бахтиным попробуем наладить диалог, попробуем дать слово собеседнику и прислушаемся. Сами средневековые люди знали, что такое человек? Среди природных и человеческих катаклизмов, политической и религиозной неразберихи существовал ли идеал человека, понятный и желанный одновременно монаху, королю, богачу, нищему, горожанину и крестьянину? На этот вопрос можно ответить утвердительно. Более того, мало какая иная эпоха была столь уверена в предвечной заданности такого идеала, как христианское Средневековье. В обществе, проникнутом религией, на протяжении столетий не желавшем осмыслять самое себя и то, что с ним происходит, иначе как под эгидой вечности, богословствуя, идея человека естественным образом произрастала из христианства. Человек – это тот, кто верует. Тот, кто не верует, вроде нынешнего атеиста или, если вернуться поближе к изучаемой эпохе, французского «вольнодумца», уже не человек.
До XIII в., а по большому счету до Нового времени можно найти очень немного свидетельств серьезного, без диссидентской позы, отрицания бытия Бога. Да и в каждом таком случае нужно выяснять, как и почему конкретному индивиду приписывается такое отрицание, воспринимавшееся, как легко догадаться, как тяжелейшее оскорбление или как обвинение, ведущее на плаху. Точно так же в устах человека отрицание бытия – именно бытия – Бога могло звучать бунтарской бравадой, вызовом окружающему обществу, минутным или более длительным интеллектуальным опьянением, усталостью от «жизни, перенасыщенной религиозным содержанием и религиозными формами»[20]. Даже знаменитый первый стих 13-го псалма «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога»[21], прочитанный «мистически», служил проповедникам и богословам отправной точкой для доказательства обратного. Можно было отколоться от правоверия, можно было бросить христианство и перейти в ислам, намного реже в иудаизм, потому что это редко сулило земные выгоды, можно было, наконец, продать душу дьяволу – все это лишь падение грешника, еще не превращавшее человека в атеиста. Неверные, язычники близки к этому, но все же, с точки зрения христиан, писавших о них, они верят хоть во что-то: в истуканов, в огонь, в звезды, в дьявола, то есть в какого-то злого, неправильного, с ног на голову перевернутого «бога».
15
Murray A. Reason and Society in the Middle Ages. Oxford, 1978. Р. 383–393.
16
Bäuml F. Varieties and Consequences of Medieval Literacy and Illiteracy // Speculum. 1980. Vol. 55. Is. 2. P. 237–264.
17
Шатобриан Ф. Р. де. Гений христианства // Эстетика раннего французского романтизма / Сост., вступ. ст. и коммент. В. А. Мильчиной; пер. с фран. О. Э. Гринберг, В. А. Мильчиной. М., 1982. С. 190.
18
Февр Л. Бои за историю / Пер. А. А. Бобовича и др. М., 1991. С. 19.
19
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 290.
20
Хёйзинга Й. Осень Средневековья: Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах: Сочинения: в 3 т. / Пер. Д. В. Сильвестрова. М., 1995. Т. I. С. 165.
21
Пс. 13:1, 52:2.