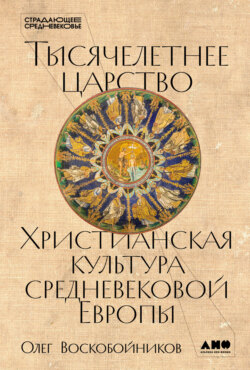Читать книгу Тысячелетнее царство: Христианская культура средневековой Европы - Олег Сергеевич Воскобойников, Олег Воскобойников - Страница 4
Средневековье:
Образ культуры и культура образа
Христианство и культура
ОглавлениеПод христианской культурой мы будем понимать важнейшие особенности мышления, свойственные человеку, жившему между IV и XV вв. в Западной Европе. Речь пойдет о тех проблемах, которые в разной мере волновали всех представителей средневекового общества, но прежде всего, конечно, тех, кто умел их выразить: словом, делом, в произведении искусства. Мы увидим, что они лишь отчасти совпадают с тем, что волнует нас сегодня. В то же время средневековый человек не вызывал бы у нас особого интереса, если бы он не был нашим далеким, но все же настоящим, законным предком. Его культура и картина мира ничем не затронули бы наше воображение, если бы мы – хоть в малой степени – не узнавали в нем самих себя.
При всей условности историко-культурных хронологических границ без них не обойтись, и выделение тысячелетия IV–XV вв. представляется наиболее обоснованным. IV столетие вывело христианство из подполья. «Долгий» V век, от Августина до Боэция, с одной стороны, христианизировал обе империи, Восточную и Западную, с другой – поставил точку на имперской истории Запада. Юстиниановская попытка вернуть Рим римлянам не смогла вернуть средиземноморской культуре единства под эгидой Константинополя и латыни. Точно так же «долгое» XVI столетие – его религиозное, художественное, политическое, научное мышление – коренным образом поменяло всю систему координат. И наверное, в нем следует проложить условную – очень широкую – пограничную полосу в большой истории западноевропейской культуры. Но и без IV в., формально и по сути входящего в историю античной цивилизации, трудно понять все дальнейшее развитие именно культуры.
Современная историография как никогда далека от единства по поводу хронологических и географических рамок Средневековья. Некоторые историки любят говорить о «долгом Средневековье», приблизительно от III до начала XIX в., от кризиса Римской империи и распространения христианства до индустриальной революции, ибо, говорят они, в истории мировоззрения много констант, то есть того, что не меняется. Такое Средневековье тяготеет к бесконечности, вбирая в себя и Возрождение, и Просвещение, то есть эпохи, строившие свое самосознание на отрицании Средневековья и его «предрассудков». Мы будем правы, если скажем, что у средневековых людей хватало предрассудков: они сами критиковали их не хуже, чем это делал Вольтер. Однако чуть критического взгляда на современное общество достаточно, чтобы удостовериться, что в нем их тоже немало. При желании можно даже прийти к выводу, что они в целом не изменились.
Можно также утверждать, как это часто и делается, что средневековые писатели, художники, ученые рабски следовали своим многочисленным авторитетам, историки были некритичны или бессовестно лживы и продажны. Если хороший современный автор будоражит наше воображение привкусом новизны и свежести, изяществом и неожиданными поворотами стиля, то хороший средневековый автор может похвастаться разве что удачно скомпилированной «суммой», списком вопросов и ответов, которые кажутся нам в лучшем случае забавными, а чаще – праздными. Во всех своих проявлениях Средневековье скучно, монотонно и неоригинально. Однако, рассуждая таким образом, мы слишком быстро сбрасываем с законного пьедестала идол авторитета в современной культуре, отнимаем у нее главное: преемственность.
Сегодня, как и тысячу лет назад, художник учится у мастера, как и прежде, заимствует у предшественников формы и приемы мастерства. Отрицание канонов и правил в эпоху авангарда стало правилом: не отрицавший канонов и не предлагавший чего-нибудь совершенно «нового» не мог рассчитывать на свое место под солнцем Монмартра. Ученый, как и его предшественник-схоласт, должен снабдить свое исследование многоэтажным критическим аппаратом из ссылок, цитат и библиографии. Смелые физики, кратко и доходчиво растолковывая нам модель мироздания и раскрывая историю времени, оптимистически утверждают, что, если мы найдем ответ на вопрос, почему существуем мы сами и наша Вселенная, «это будет окончательным триумфом человеческого разума, ибо тогда нам откроется Божественный замысел»[7]. Логику работы журналиста и его начальства при отборе материала для телепередачи или блога можно анализировать с помощью тех же исследовательских приемов, что и хронику, написанную в XV в. по заказу аббата, герцога, короля или парламента. Далеко ли мы от Средневековья? Или оно – предостережение от «притязаний на исключительность»?[8]
В средневековом сознании очень важно было понятие канона, то есть заранее заданных правил, которым нужно следовать в жизни и творчестве. «Свобода творчества», «свободомыслие», ниспровержение канонов и авторитетов, постоянная смена вех и течений, определившие культуру XX в., наследницу авангарда, – все это создало свои непреложные законы, которые подчинили себе мировоззрение и поведение индивидов. Вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову прийти на дискотеку в костюме и галстуке и рассуждать там о сравнительных достоинствах Рембрандта и Эль Греко: это было бы воспринято как отрицание культуры дискотеки, отрицатель по крайней мере будет оттеснен с танцпола, окажется «маргиналом». Так же странно, наверное, выглядел бы доминиканец, облаченный в традиционную для его ордена белую рясу с черным плащом, в кружке свободомыслящих просветителей: они бы его выставили. Свободомыслие умеет быть нетерпимым.
Средневековые люди не были ни глупее, ни ограниченнее, ни догматичнее нас. Только согласившись с этим, имеет смысл начинать исследование средневековой культуры. Отказавшись от роли арбитров, – но не отказавшись от права на суждение, – мы не умрем с тоски, глядя на вечно повторяющиеся сюжеты христианской иконографии или читая скучные парафразы заранее заданных сюжетов и истин: они покажутся таковыми лишь на первый, поверхностный взгляд.
Современная оценка Средневековья в истории мысли далека от осуждения, унаследованного от Нового времени, от XVIII в., когда Фридрих-Вильгельм Прусский, назначая учителя истории для наследника, будущего Фридриха Великого, запрещал ему говорить об этой «католической» эпохе[9]. Cудить и осуждать в сегодняшней науке вообще как-то не принято. Для широкого читателя нужную работу сделали путеводители, расставившие звездочки у средневековых медвежьих углов. В средневековых текстах открыли философию языка, семиотику, временну́ю логику, эпистемическую логику, философию множеств. В немецкой школе доминиканцев XIV в. обнаружили нечто отдаленно родственное трансцендентальному идеализму, метафизике духа и даже некую форму феноменологии[10]. В средневековой мысли уже не ищут одни лишь «истоки», «потери», «пробуждения» и «возрождения» некой философии, но различные способы, которыми мыслители организовывали общество и придавали смысл окружающему миру[11].
Средневековые историки, несмотря на отсутствие истории как самостоятельной дисциплины или специальных факультетов, заложили основы современной исторической науки, совместив поиски причинно-следственных связей между событиями с погодными записями событий – хрониками и анналами. В своей тяге к периодизации они «овладели временем»[12]. Парижские и оксфордские математики XIV в. (или «калькуляторы», «вычислители», как они себя называли) за четыре века до Ньютона вплотную подошли к закону всемирного тяготения[13]. Так называемая готическая архитектура, ненавистная Вазари не меньше, чем «варварская» латынь – гуманистам, дала архитектуре XIX–XX вв. не меньше, чем Ренессанс и классицизм Нового времени, причем не только в техническом плане, что очевидно с первого взгляда на Эйфелеву башню, но и в эстетическом, если посмотреть и почитать Ле Корбюзье, Салливана, Миса ван дер Роэ, Гропиуса.
В VII–VIII вв. ирландские и британские монахи, испытывая понятные трудности в латыни, решили, переписывая книги, разделять слова, а не писать сплошняком, как писали прежде. Сами того не зная, они заложили основы не только современной книги, но и самой практики чтения «про себя», кажущейся нам элементарной и самоочевидной. В этих практиках лежат истоки и современного литературного самосознания, интимного отношения к тексту. Если античный и раннесредневековый человек диктовал текст секретарю, то Гвиберт Ножанский, около 1100 г., владея практикой раздельного письма, уже мог записывать что-то для себя. Из этого «для себя», как мы увидим, возможно, и возникли литературная субъективность, соло Автора. Но даже палеографы поняли всю значимость этого явления относительно недавно[14].
Слово «компьютер» восходит к среднелатинскому computus или compotus, которым британские и ирландские монахи VII–IX вв. обозначили вычисление дат передвижных праздников литургического календаря, привязанных не к солнечному, а к лунному календарю, прежде всего Пасхи. При желании наш современник может найти именно в Средневековье, а не в Античности и не в Возрождении истоки всего что угодно, будь то парламентская демократия, банковское дело и даже самолет. Одним словом, Средневековье – колыбель современной цивилизации.
7
Хокинг С., Млодинов Л. Кратчайшая история времени / Пер. Н. Смородинской. М., 2006. С. 165; Kanitscheider B. Kosmologie. Geschichte und Systematik in philosophischer Perspekrive. Stuttgart, 1984. S. 436–459.
8
Ясперс К. Смысл и назначение истории / Пер. М. И. Левиной. М., 1994. С. 49.
9
Fried J. Das Mittelalter. Geschichte und Kultur. München, 2008. S. 536.
10
Де Либера А. Средневековое мышление / Пер. А. М. Руткевича. М., 2004. С. 24.
11
Gregory T. Per una Storia delle filosofie medievali // Universalità della Ragione. Pluralità delle Filosofie nel Medioevo. Atti del XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale (Palermo, 16–22 settembre 2007). Palermo, 2011. P. 350–362; D’Onofrio G. La storia del pensiero altomedievale. Modelli tradizionali e nuove chiavi di lettura // Scientia, Fides, Theologia. Studi di filosofia medievale in onore di Gianfranco Fioravanti / A cura di St. Perfetti. Pisa, 2011. P. 49–87.
12
Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада / Пер. Е. В. Баевской, Э. М. Береговской. М., 2002. С. 174–244.
13
Maier A. Ausgehendes Mittelalter. Gesammelte Aufsätze zur Geistesgeschichte des 14. Jahrhunderts: in 2 vol. Roma, 1964. Vol. 1. P. 421.
14
Zink M. La subjectivité littéraire. Autour du siècle de Saint Louis. Paris, 1985. P. 179–198; Saenger P. Space Between Words: The Origins of Silent Reading. Stanford, 1997. P. 249.