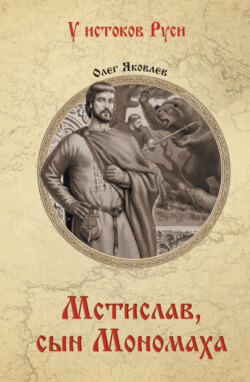Читать книгу Мстислав, сын Мономаха - Олег Яковлев - Страница 12
Глава 10
ОглавлениеВ то время как Мстислав с новгородскими мужами пребывал у великого князя, гусляр Олекса, делать которому в Киеве было особо нечего, прогуливался по тенистым городским улочкам. Сначала он прошёлся по Бабьему Торжку[82], где царило оживление и под звуки дудок плясали потешные скоморохи в масках-скуратах, а затем, когда надоели ему шум и крики вокруг, направил стопы к Золотым воротам, за коими тянулись утлые хижины киевского предместья.
Золотые ворота поразили его своим великолепием. Дубовые створки ворот, обитые листами позолоченной меди, ослепительно сверкали под лучами солнца. Над аркой величественно возвышалась сложенная из розового кирпича надвратная башня. Кверху она немного сужалась, и на высоком её забороле виднелась такая же празднично-розовая нарядная церковенка с золотым куполом.
Олекса невольно остановился в нескольких десятках шагов от ворот, задрал голову и восхищённо уставился на эту так нежданно открывшуюся ему красоту. Он впервые был в стольном граде и никак не мог надивиться его строениям. Чувство было такое, будто попал он в некую сказку, – чем-то необычным, изумительным, неземным веяло от Киева, от его соборов, теремов, башен, словно город этот ближе, чем любой другой, был к Богу, к небесам, возвышался надо всем миром, но не надменно, не кичливо, а плавно, красиво, будто стелился над землёю, витал в воздухе – невесомый, прозрачный, полный ярких сочных красок.
У Золотых ворот, прислонившись спиной к каменной стене, сидел молодой гусляр в белой, перетянутой на поясе кожаным ремнём свите из грубого сукна. Его длинные, перехваченные на голове широким серебряным поясом русые волосы плавными волнами ниспадали на плечи, на лоб, почти полностью закрывали уши. Гусляр перебирал тонкими чувствительными перстами струны и тихо напевал грустную, незнакомую Олексе песнь. Затуманенный взор его зелёных очей устремлён был вдаль, и вряд ли молодой песнетворец замечал кого перед собой – весь он был во власти высокого полёта, наверное, очень далеко улетел в своих мыслях от земли, от Киева, от Золотых ворот, от деревянной скамейки, на которой сидел.
Олекса пристально вгляделся в лицо певца и, не в силах более сдерживать свой восторг, воскликнул:
– Ходына!
Гусляр вздрогнул, рука его замерла на струнах, он вскочил со скамьи, отложил гусли и бросился к Олексе с распростёртыми объятиями.
– Друже! Откуда ты здесь?! – удивлённо спрашивал Олекса. – Вот уж не думал тебя тут сыскать!
– А я, друг Олекса, уже проведал, что ты со князем Мстиславом в стольном. Хотел нынче же тебя навестить. Извини, не торопился. – Ходына с улыбкой тряс товарища за плечи. – Ибо сегодняшний день – самый счастливый в жизни моей! Сижу, понимаешь, тут с раннего утра, играю на гуслях невесть что, глупость всякую. Вдруг гляжу: чрез врата возок въезжает боярский, останавливается, а из него… Дух захватывает! Дева, будто ангел во плоти. Власы светлы, лик ясен, очи – будто каменья алмазные. Словами не передашь. У меня аж голос пропал, персты замерли. А ангел молвит: «Спой мне, гусляр, песнь славную». Ну уж я самое лучшее, что токмо выдумал, петь стал. Ещё Боянову песнь припомнил, спел. А она глядит на меня, видит, сколь очарован я, и улыбается. А улыбка… Нигде таковой не видывал, друг Олекса. Гривну златую дала мне. А рука её – аки молоко белое, аки снег, аки пушинка. Всю жизнь воспевать сию красу готов. Сижу вот теперь, песнь сочиняю. После у купца одного испросил, что за дева. Мария, дщерь боярина Иванко Чудинича. Боле, Олекса, ничего мне на свете не надобно. Сидеть бы под окнами терема её до скончания дней да песни слагать.
Олекса пожал в ответ плечами.
– Что есть краса людская? Всё бренно, Ходына. Всё на земле непрочно. Мы умрём, ничего от нас не останется. Лишь красота соборов, градов, икон – вечна. Поклоняйся ей.
– Молод ты ещё, Олекса, – вздохнул Ходына. – Я тебя постарше буду, брате, поболе в жизни повидал. Скажу одно: нет ничего на свете, что могу сравнить с красою той девы. Ты не видал её, потому и молвишь глупость. Всё меркнет – соборы, иконы, злато – пред её взором.
Ходына порывисто схватил гусли, ударил по струнам и пропел:
Нет на свете белом красы иной,
Кроме той, что открылась мне.
Обрету ли отныне покой я
На сей бренной земле?
Очи твои подобны алмазам,
Уста – будто свежесть весеннего утра,
Голос – словно журчанье ручья,
Волосы – будто колосья снега.
– Ты – лучший певец во всей Руси! – воскликнул растроганный Олекса. – Кто ещё мог бы такое сложить?!
– Того уж нет в мире, Олекса. Боян – он песнетворец был великий.
– Приходи, Ходына, назавтра ко князю Мстиславу, – предложил Олекса. – Споёшь, князь наш песни любит.
– Нет, друже, не пойду ко Мстиславу. Ибо ведаю: у них, князей, своя правда, у нас, певцов, – своя. Погляди, Олекса, окрест. Уразумеешь многое. Народ страдает от крамол княжьих, а князьям – им дела нет до бед людских. Мать Мстиславова Бояна нашего до смерти запороть велела по навету Святополковому, князь Владимир спас. Спас, но прогнал Бояна с родной его Черниговщины. Маялся Боян, мыкался весь остаток дней своих по Ростовской земле, по Полоцкой, но нигде покоя не обретал. Такова, друже, княжья милость.
– Не знаешь ты князя Мстислава, Ходына. Он бы тебя приветил. Ну да как хошь. Силою ко князю не потащу. Скажи лучше, как дальше жить мыслишь?
– А вот как ныне. Сидеть да песни слагать. На что я ещё годен? – Ходына грустно усмехнулся. – Мыслил, в Угрию схожу, много там наших русичей на Дунае селится. Но теперь, как красу увидал неземную, никуда не тянет из Киева. Отныне куда она, туда и я.
Друзья направились в корчму в предместье Киева, до позднего вечера пили вино и услаждали слух людей песнями, затем Ходына остался там ночевать, а Олекса, успев проскочить через Золотые ворота, когда стража уже собиралась закрывать их на ночь, воротился на новгородское подворье. В голове его стоял туман, он никак не мог понять восхищения Ходыны красотой боярской дочери, ибо не ведал ещё любви – этого всепоглощающего чувства – и мечтал лишь о ратных подвигах.
Более увидеться с Ходыной Олексе не удалось. На следующий же день он с Мстиславом покинул Киев, и, как думалось ему, надолго, а может, и навсегда расстался со своим другом.
* * *
Мстислав уезжал из Киева с радостью. Нет, не всесилен оказался Святополк, уступил он воле новгородцев, уступил ему, Мстиславу, стол. Все его угрозы, уговоры оказались тщетными, пустыми словами, он подчинился, он поддался чужой воле, чужой власти, чужому желанию.
Тем временем наступила и на юге Руси настоящая осень. Сыпались под ноги жёлтые листья, с тихим шелестом ложились на землю, одевали её в красочный осенний наряд. Кони медленно брели по широкому шляху, и Мстиславу казалось, что такая дорога будет вечной и вечным будет это ощущение радости.
Он даже временами спешивался и, держа коня за повод, шёл по шуршащей листве, глядя себе под ноги, не замечая вокруг никого: ни Олексы, ни протоиерея Иоанна, ни бояр, ни купцов, будто странник, одинокий странник, который отыскал, наконец, дорогу к земле обетованной. Земля обетованная для него, Мстислава, – это вершина, вершина недоступная пока, но он верил, что достигнет её, непременно достигнет, она уже где-то рядом, совсем недалеко, надо только идти к ней и не сворачивать в сторону. Вот уже виднеется впереди порог – порог власти, порог величия.
И Мстислав скоро ощутит себя как бы стоящим перед этим порогом, но ещё не могущим через него переступить. Ощущение это не будет покидать его долгие годы, и он будет то озаряться надеждой, то впадать в отчаяние при мысли о невозможности сделать хотя бы шаг дальше к вершине, но всё то будет позже, пока же он уже почувствовал в себе силу, власть, волю, но ещё не дал почувствовать эти свои новые обретённые качества другим, ещё не дошёл до того порога, откуда начинается подлинное величие, но уже подходил к нему с каждым шагом, с каждой минутой, подходил с радостным стуком в сердце, с трепетом в душе, с осознанием близости свершения своих сокровенных мечтаний, чаяний, устремлял взор вдаль, в будущее и проникался, наконец, верой в себя, в своё высокое предназначение на земле.
82
Бабий Торжок – торговая площадь в древнем Киеве, внутри княжеского Детинца.