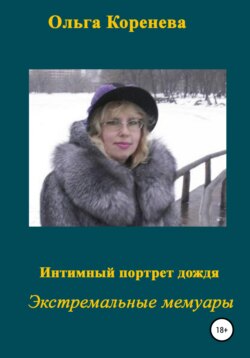Читать книгу Интимный портрет дождя - Ольга Александровна Коренева - Страница 3
Часть вторая
I. Памяти папы и мамы
Оглавление(Об Александре Кореневе и Людмиле Сабининой, писателях)
Они были почти ровесники. И очень любили друг друга.
И кто бы мог подумать, что все закончится так трагически?
Такие они были чудаки, вы просто не поверите, да я и сама бы ни в жизнь не поверила, не будь я их дочерью, а они – моими родителями. Даже в раннем детстве я удивлялась, ну что за чудаков мне Бог послал, ведь не бывает же так! А может, бывает?
Вместо того, чтобы кормить обедом меня и Игоря – нас с братом, – они прилипли к стульям в своей комнате, склонились над столами, и строчат: отец – поэму, мать – роман. Рукописи по всей комнате развалены, на полу, на тахте, кресле, рояле – у нас большой старинный рояль был, «Мильбах», четверть комнаты занимал, на нем груды нот и рукописей, вазы с цветами (мама любила цветы, они у нас всюду были), под ними – склад консервных банок, (весь год копили на лето, на дачу, ведь там нет магазинов). Иногда они отрывались от своей писанины и обращались друг к другу. Мама помогала папе найти верную строку, а отец подсказывал маме точную фразу, или придумывал концовку. Он был большой придумщик. Иногда они бурно обсуждали написанное и даже ссорились…
Вместо того, чтобы воспитывать нас и дарить нам игрушки, они воспитывали друг друга и дарили друг другу книги. А книг этих итак всюду – тьма тьмущая, повернуться негде! На стенах просвета нет, обоев не видать из-за книжных полок, стеллажей всяких.
По отношению к нам, детям, они пытались исполнять родительские обязанности, но делали это по вдохновению и творчески, как подскажет воображение. То берут с собой на прогулки, устраивают пикники, играют с нами, пока не начнут раздражаться и не надают на пинков, то бывают жестоки и несправедливы, придирчивы по мелочам.
Они не были штатными единицами, «винтиками» отлаженной советской машины. Они жили на гонорары, свободными художниками, пребывая «на вольных хлебах». В доме у нас то не было ни крошки, то – пир горой, веселье и куча гостей. Но концы с концами все-таки сводили, занимая и перезанимая, а потом враз отдавая долги, ухая половину гонорара. В то время можно было так жить. Родители любили праздники, в результате которых их заработка хватало на неделю, но зато какую неделю! Это были «обжорные» деньки! Мы объедались, и у нас болели животы. Мы «всем кагалом» канали в кино, прихватив с собой рыжего кота Алтына – он тоже обожал кинофильмы. В зал проносили его в сумке, а во время сеанса он лежал на мамином плече наподобие воротника. Никого это не смущало: то ли люди в те времена были добрее, то ли оттого, что наш кот очень уж напоминал лису, такой пушистый, рыжий, ну просто воротник и все тут (никто же не подумает, что живая лиса лежит на человеке), а может, из-за того, что наш кинотеатр находился во дворе писательского дома, и в зале были в основном творческие семьи, привыкшие ко всякому…
И у нас в семье были «всякие всякости и непредсказуемости», как иронизировала мама. Землетрясения, цунами, полтергейсты (в переносном, конечно, смысле), чего только не случалось.
Я росла замкнутым худосочным существом, нося в себе все свои детские обиды, иногда злобно вымещая их на брате – он был младше. Лгала, тырила конфеты с кухни, на вопросы родителей отвечала молчаньем или грубостью, за что тут же получала затрещину. В общем, была не сахар. Подруга у меня возникала одна какая-нибудь, я их меняла. В школе училась плохо – назло «предкам». Мне не хватало ласки и заботы, я ревновала к брату, который был послушный (вернее, подавленный), и его хвалили, а меня выставляли отрицательным примером. От всего этого я мучилась сама и мучила других. Любила я только тетю Зину (мамину сестру) и бабушку, которые со мной возились, когда ездила к ним на каникулы. Они жили в Калинине (нынешней Твери), были добры, справедливы и пекли вкусные пироги и торты. Им я тоже хамила. Привыкла быть дурным ребенком.
Родители жили напряженной творческой жизнью. Они были молоды, талантливы, со сложными судьбами и весьма заковыристыми характерами. Всю жизнь боролись за выживание, за публикации.
Какие они были? Мама – красивая в полном смысле этого слова, русская красавица, и очень моложавая. На улице ее часто принимали за рослую девочку. Пухленькая, розовощекая, с полными губками и большими серыми глазами, чуть растерянными от близорукости. Ее книги выходили посмертно, она не дожила ни до чего хорошего. Наверно, потому, что талантливые долго не живут и часто остаются безвестными… Отец был худощавый, энергичный, голубоглазый, с каштановыми кудрями и рыжеватыми усиками. Похожий на юнца, и никто не верил, что он ветеран ВОВ. Он уже не надевал боевые награды после неприятностей Девятого Мая, когда прохожие обозвали его «юнцом бессовестным». Он стеснялся своей моложавости, никогда не пользовался инвалидским удостоверением (контузия, осколок в позвоночнике, приступы ярости, из-за чего не мог работать в штате: дрался). Мама была родом из Твери, с девяти лет работала тапером в местном кинотеатре, у нее был абсолютный слух и способности импровизатора. У мамы были младшие сестра и брат. В сущности, они и сейчас есть, это мои тетя Зина и дядя Юра (были тогда, когда писалась эта книга. Сейчас дяди Юры уже нет. А тетя Зина лежит, парализованнная после инсульта, у меня – я забрала ее из Твери). Моя бабушка – мамина мама – была учительницей младших классов в общеобразовательной школе, а дедушка – бухгалтером и музыкантом, по вечерам он подрабатывал в городском саду, дирижировал оркестром. У него было больное сердце. У мамы и ее сестры – тоже. Это передалось от него всем Филипповым, кроме дяди Юры, он рос здоровым веселым ребенком. С войны вернулся инвалидом. Дедушка, Николай Дмитриевич, был родом из Риги, а бабушка, Ольга Николаевна – из Солигалича Костромской губернии. Потом они жили в Москве, но вскоре переехали в Калинин, который был в то время необычайно красив, весь в зелени, с литыми чугунными решетками, церквами, реками (их там шесть – Тверца, Волга, Лазурь, Тьма, Тьмака, и даже свой Иртыш), с роскошными пляжами из белого кварцевого песка, со старинными купеческими особняками и Екатерининским дворцом. Калинин был курортным местом, туда на лето съезжались дачники из Москвы и Ленинграда. В Твери жила тетя Маня, моя няня, у нее был выговор такой чудной, белорусско-воронежский. Но с тетей Маней мои родичи познакомились уже потом, спустя много лет, когда канула в прошлое война, когда многое в стране произошло и когда родилась Я. Долго я не умела говорить, а заговорила сразу на «теть-Манин» манер…
Мама познакомилась с отцом незадолго до войны – она в то время училась в Московской консерватории. Это был день трагический – погибла папина мама, моя бабушка Соня, о которой я потом столько слышала и на которую, говорят, я похожа. Папе тогда было восемнадцать. Война разлучила моих родителей, но потом они снова нашли друг друга (это целая история, но останавливаться на ней я не буду), чтобы никогда не расставаться. Родителей почти всегда видели вместе. Даже стиркой и уборкой занимались вместе. Вдвоем шли в магазин, когда обламывались им деньги, до отказа забивали холодильник продуктами, чтобы хватило на-подольше.
Они очень любили деревню в лесу, где на все лето снимали дачу. На дачу мы ехали на грузовике, со всеми пожитками и рыжим Алтыном. Это было весело и далеко. Деревня Протасово, леса, две реки, поля с пшеницей и горохом, грибы и ягоды. В лесу за домом была «Ежовая поляна» – так придумал папа. Там, в можжевельнике и соснах, на солнечном пятачке, они целыми днями строчили свои стихи и прозу, там висели гамаки, была сумка с едой, в кустах шуршали ежи, иногда они вылезали на поляну, подходили к пням и долго смотрели, как пишут родители. Я, Игорь и кот Алтын рядом объедали чернику с кустов. Кот очень любил ягоды.
Иногда родители ссорились. Однажды даже подрались. Иногда им вдруг начинало казаться, что мы с братом растем как трава в поле, и они с рвением хватались нас воспитывать. И тогда для нас черные деньки наступали. Нам нравилось быть травой.
Однажды нас стали учить музыке, мы сопротивлялись, и мама отступилась в конце-концов, безмерно расстроенная. Она была профессиональной пианисткой, и в дни безденежья подрабатывала частными уроками. Папа добывал хлеб переводами, сценариями, рецензиями, выступлениями и газетными публикациями. Работоспособность у него была колоссальная, сутки напролет просиживал за письменным столом.
Папа был энциклопедически образован. Казалось, нет в мире чего-нибудь такого, чего бы он не знал. Однажды моя тетя, гостившая у нас, сказала, что появилась новая переводная книга какого-то малоизвестного (не помню уж) зарубежного автора. Папа тут же назвал эту книгу и перечислил все, что им написано, и биографию автора. Тетя не поверила. Тогда отец влез на стремянку, достал эту книгу, и раскрыл предисловие. Тетя прочла – все верно. Она была потрясена памятью отца.
Папа любил путешествовать. Вместе с другими поэтами он порой ездил по стране с выступлениями. Там он знакомился с читателями и, пораженный нищетой жителей периферии, раздаривал им свою одежду и книги. Возвращался обычно с пустым чемоданом. Дома был скандал, ссора. «Всем помочь невозможно!» – кричала мама. «Я тебе свитер с оленями на последние деньги покупала, детей без фруктов оставила, а ты!»
В отличие от отца, мама была человеком чрезвычайно уравновешенным. Она редко выходила из себя. Папа был резок, импульсивен, иногда восторжен, порой капризен, как ребенок. Мама – его полная противоположность. Всегда рассудительная, задумчивая. С нами, детьми, общалась редко. Иногда пристально и печально глядела на меня или Игоря, это нас ужасно злило почему-то. У нее были удивительной формы глаза, необычайно красивые, серо-сине-зеленоватые с перламутровым переливом, а кожа была, как у маленькой девочки, гладкая и фарфорово-розовая. Густые, с золотистым блеском, волосы, длинные и пышные, она иногда закалывала в виде короны. Говорят, глазами и цветом лица она пошла в мою прабабушку, бабушкину мать. Эта прабабушка была весьма непростая штучка, долго хранившая свою тайну. Правда, потом произошла утечка информации, и тайна просочилась к моей бабушке, от нее – к тете Зине, а потом и ко мне. Это позорная тайна, я такие обожаю, они во мне не держатся, и сейчас я о ней расскажу. Оказывается, моя прабабка была в близких отношениях с кем-то из императорской семьи, каким-то, вроде, Великим Князем, имела от него ребенка – мою бабушку. Этого ребенка она затем поспешила сбагрить. Поэтому моя бабушка Ольга жила при своей матери только в раннем детстве, а потом ее воспитывало государство. Она окончила женскую семинарию и затем работала учительницей. Свою мать она не видела. Слышала только, что та вышла замуж и сменила фамилию. Бабушка Ольга умерла, когда ей было девяносто. Это было летом, в самый разгар жары, во время дневного сна…
Но вернемся к отцу… Он был автором пятнадцати книг и книжонок. На полке в его комнате среди последних черновиков лежала шкатулка с боевыми наградами: «Крест храбрости» (ПНР) (за шальную отвагу в Польше, где он был расстрелян в упор немецкими солдатами и выжил лишь благодаря трофейным консервам под гимнастеркой, которые нес в свою землянку), ордена Красной Звезды, «Знак Почета», медали.
Он был энергичен, вынослив, физически очень крепок, ему бы жить да жить… Многие в нашей стране могли бы прожить дольше. Но рушилась Вторая Империя, гибло все «совдеповское» бытие и все лучшее, что в нем было. Вторая Империя не долго просуществовала на обломках Первой. А Первая, истинно русская, сгинула, верно, оттого, что душа ее и совесть – император – кое в чем отступил от христианской, духовной сути. Ведь Россия – страна по сути духовная и мистическая. И грехи лучшего и Высочайшего ведут к катастрофе… Да, отречение от престола – это то же самое, что отречение от своих детей во время их болезни. Ведь Россия была больна. Требовалось лекарство, возможно, горькое… Когда государь отрекся от престола, то в стране сразу же прекратилось финансирование сиротских домов для детей благородного происхождения и вдовьих домов для благородных дам. Все они были выброшены на улицу. Случилось много личных катастроф!
Катастрофами пронизаны и судьбы потомков, оказавшихся в другой эпохе. Смерть моей мамы все перевернула, чуть с ума не свела отца. Вскоре в наш дом втерлась КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА, приехавшая в Москву по лимиту и специализирующаяся на торговле овощами. Это была женщина с размахом. Она лихо спровадила из дома меня, из жизни – отца, и сделалась единоличной владелицей нашей квартиры, имущества, книг и рукописей родителей, военных наград папы, и всего нашего семейного архива. Она взяла нашу фамилию и внешние атрибуты нашего стиля жизни. Она тут же приняла обличье и манеру общения интеллигентной дамы. Эта женщина обладала актерским талантом.
А может, родители сами накликали беду? Ведь нет дыма без огня. В детстве мне все время чудилось что-то не то в отношениях между папой и мамой. Какой-то надрыв, затаенная беда. Мне становилось страшно. Иногда казалось, что вот-вот случится что-то не то у нас дома, не то в городе или во всех городах сразу, во всей стране… Очень ужасное что-то. Не атомная война, которой нас пугают в школе, а еще хуже. По ночам мне снились фашистские лагеря, расстрелы, звездные войны и отечественные бандиты с жуткими харями…
А отношения между родителями действительно были непростыми, несмотря на внешнее благополучие. В результате мама тяжело заболела – рак. Длительная болезнь, две операции, мучительное лечение, закончившееся летальным исходом – все это вконец измотало нашу семью…
Семью, которую я ненавидела и постаралась при первой же возможности покинуть. Не сразу после маминой смерти, а потом, когда возникла та самая Галя (Глира Мухаммедовна) … (Вот тут я вру. Кто же по доброй воле бросает родной угол и уходит в никуда, волоча свою измученную душу? Все было не так. Меня просто вырвали с корнем. А я сделала вид, что ушла сама… Но ведь я обещала не писать о плохом.)