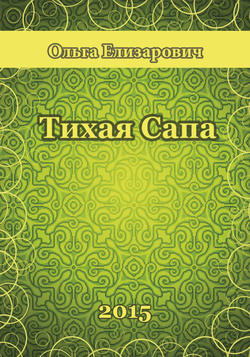Читать книгу Тихая сапа - Ольга Елизарович - Страница 5
Глава 3. Ритуальные пляски
ОглавлениеНелюбовь классной не трогала меня. Я её попросту не осознавала. Взрослые пока что казались непогрешимыми. У них был только один недостаток: бессилие перед хулиганами. Этим плачевным недостатком обладали даже мои родители. А то, что Нина Николаевна одним своим видом могла осадить самых отпетых, было в моих глазах высочайшим достоинством, заслуживающим безоговорочной признательности. Я, конечно, не подозревала, что её нерасположение являлось в большой степени причиной моего неуспеха среди одноклассников. Потому что этот неуспех я пожинала далеко не впервые, в нём была даже закономерность. Меня не любили воспитательницы в детском саду, не любила первая учительница Анна Гавриловна, которую я обожала; подозрительно относились вожатые в пионерских лагерях. Так бывало везде, где вместо людей были товарищи, а вместо дружеских компаний – коллективы.
Теперь-то я понимаю, что причиной была моя подслеповатость, не позволявшая мне копировать поведение окружающих, как другие дети. Ведь им стоило только глазом повести, чтобы понять, сердятся на них или нет. Ясно, что мои поступки наугад выглядели злостным непослушанием. Моё присутствие в коллективе затрудняло воспитателям поддерживать общий порядок, вынуждая их заниматься ещё и мной, в то время как надо было ежеминутно спасаться от озорников.
В школе к нелюбви учителей присоединились жесточайшие невзгоды от мальчишек, загонявшие меня в самый дальний, самый незаметный уголок. Я дивилась их поразительному единодушию, их монолитности и покорно ожидала всего самого страшного, не представляя, с какой стороны и в каком виде явится внезапная беда. Это у меня выбивали из рук портфель, отрабатывая удар ребром ладони, это меня забрасывали зимой снежками, обливали весной из лужи, заплёвывали жёванными бумажками из трубки. Это, наконец, вокруг меня каждую перемену с подвываниями скакал кто-нибудь из одноклассников, выкрикивая очередное прозвище. Впрочем, другим девочкам тоже доставалось – и снежков, и рогаток, – просто, в отличие от меняя, они держались единым фронтом и никогда не проявляли свойственного мне преступного безразличия к такой опасной стихии, как мальчишки, требующие постоянной боевой готовности.
Моя же реакция всегда оказывалась прямо противоположной: я знала по опыту, что попасть ударом по обидчику невозможно, ибо их ловкость не имела границ. И я всё более погружалась в свои книги и грёзы, почти переставая осматриваться по сторонам, зная, насколько это бесполезно. Я не принимала их, не пытаясь даже этого скрыть. Я не говорила их языком, не увлекалась их интересами, никого не замечала. Помню, как в седьмом классе в меня постоянно гасили мячом при игре в волейбол на уроке физкультуры. С моей стороны это было самое настоящее «подставление второй щеки» в действии. Я сидела, сосредоточенно глядя в пространство, в то время как другие девочки оглушительно «болели», подзадоривая «своих». Но даже жестокие «гашения» не могли заставить меня хоть немножечко уступить и хотя бы повернуть голову в сторону игроков.
Увы, девочки тоже были для меня неприемлемы. Их разговоры наводили скуку, их развлечения состояли только в том, чтобы обсуждать текущее. Они никогда не смеялись над чем-нибудь по-настоящему смешным, но только совместно хихикали по непонятным поводам. Они никогда не говорили о книгах, не играли в мяч (кроме как на уроке физкультуры), не катались на лыжах и велосипеде… Может быть просто потому, что ни у кого из них не было ни лыж, ни велосипеда.
Но страшнее всех был Этот Самый. У него была непомерно трудная для русского произношения многосогласная фамилия, и поэтому, прежде чем вызвать его к доске, учителя нередко морщились и говорили: «Ну…. этот самый…»
Я знала его ещё в детском саду. Моя кровать стояла вплотную к его кровати, и в тихий час я всегда с любопытством и страхом ждала, лёжа с зажмуренными глазами, как сначала станет совсем-совсем тихо в палате, потом произойдёт какое-то неуловимое движение на соседней постели, а потом едва заметно дрогнет моё одеяло и ужом скользнёт под него маленькая горячая рука, всё ближе, ближе… На соседней постели груда одеял, из-под которой единственно виден чёрный глаз с немым напряжённым вопросом, он так и вцепился мне в лицо. Но мои глаза стали как нарисованные, и всё лицо белеет мёртвым застывшим пятном. Уж притаился. Пополз. Опять стоп. Я понимала, что он доползёт. Но что будет потом – не знал никто.
Это случилось всего два или три раза. Вскоре он перестал ходить в детский сад. Наверно, их семья уже тогда переехала в новый город. Узнал ли он меня теперь, было неясно. Я надеялась, что нет, ведь прошло больше шести лет, притом в детсаду я была без очков и без кос.
Как бы там ни было, а в школе он насмехался надо мной больше всех. Стоило мне только попасть в поле его зрения, как в нём словно срабатывал некий рубильник. Он словно возложил на себя обязанности, которые исполнял с неиссякаемым рвением.
– Тихая Сапа! – завидя меня, ликовал он, набирая скорость с другого конца коридора.
И, не ограничившись этим, принимался нараспев повторять двадцать, сто, тысячу раз одно и то же, начиная с самого нижнего «ля» субконтроктавы и кончая самым верхним, какое только можно себе вообразить, ультразвуковым «ля»:
– Тихая Сапа! Тихая Сапа!
В то же время он успевал произвести передо мной некий ритуальный танец, состоящий из бешеного кружения, подскакивания к потолку, с таким высоким вскидыванием ног, что я не сомневалась – в следующую же минуту очкам не сдобровать. Я застывала на месте, прижавшись к стене, считая ниже своего достоинства даже заслонить лицо рукой, ибо от камнепада нет спасения, силясь разгадать, что надо от меня этому длинноногому, донельзя счастливому существу.
К счастью, иногда появлялся олигофрен Аркаша, мой сосед по парте, большой и толстый, с аккуратно заправленным в жилетку пионерским галстуком, любящий сморкаться и вытирать губы большим белым платком. Ребята часто кричали ему: «Аркаша, вытри нос!» – и он послушно вытирал хоть по нескольку раз к ряду, каждый раз тщательно складывая и убирая платок в карман. Его миссия по отношению ко мне состояла в том, что он немедленно принимал огонь на себя. Защитительную речь он начинал весьма резонно, своим рассудительным глуховатым голосом старой бабушки:
– Девочек обижать нельзя, это плохо, очень плохо.
– А почему? – неподдельно заинтересовывался обидчик, и беседа текла поистине нескончаемо.
Мои одноклассники в тот год учёбы в Филиале чётко распадались на два подвида: двенадцатилетние жертвы «опережающих темпов строительства» и шестнадцатилетние жертвы родителей-алкоголиков. Причин этого я не искала, принимая окружающий мир как непреложную данность. Однако, нескончаемые беседы учителей с кем-нибудь из великовозрастных об извечной проблеме «а» и «б», действовали весьма изматывающе, и я скоро нашла единственно возможный выход из положения. Заложив в парту раскрытую книгу, прижимала её изнутри к щели между откидной и неподвижной крышкой, и там отлично просматривалась одна строка. Оставалось только по мере надобности сдвигать книгу под партой левой рукой. В то же время передо мной на парте лежала раскрытая тетрадь, а правая рука держала наготове чернильную авторучку. Концы пионерского галстука при этом приходилось засовывать за пелерину фартука, чтобы не падали на интересную щель, хотя это считалось нарушением формы. Таким образом бестолковые разборки у доски отступали в небытие. Жаль только, что не навсегда.
– Долохова! – крикнет внезапно Вера Терентьевна на уроке географии.
От неожиданности я резко вздрагивала, в смятении оглядываясь на учительницу и силясь уразуметь, что от меня требуется. Этот испуг выводил географичку из себя. Неужели уж у неё такой противный голос, что дети пугаются! Я поспешно выбиралась из-за парты и молча ждала, когда иссякнет поток учительского негодования.
Несколько раз Вера Терентьевна еле удерживалась от соблазна причислить меня к списку олигофренов, однако, заметив, что я отвечаю вполне сносно, если повторить вопрос два раза и поспокойнее, она примирилась с моими странностями. Подойти же и выяснить, почему я весь урок напряжённо гляжу в раскрытую передо мной тетрадь, она почему-то не стремилась. Впрочем, ей и без того было впору схватиться за голову и бежать отсюда без оглядки. Слава Богу, хоть девочки сидят тихо!
Вот тогда мне и стал помогать Аркаша, сосед по парте. К делу моего перевоспитания, порученному Врединой, он приступил на первом же совместном уроке, обхватив мне под партой ногами правую голень. Когда же я попыталась её высвободить, рассудительно произнёс:
– Я держу тебя в объятиях.
Я поняла, что освободиться незаметно и без затяжной борьбы не удастся, и предпочла мирное сосуществование, хоть и со стиснутой ногой. К счастью, пленение обошлось без дальнейшей экспансии и неожиданно оказалось даже приятным. Моя покладистость вскоре была вознаграждена: Аркаша стал по мере сил защищать меня от мальчишек, повсеместно неравнодушных к очкам. Его суждения вызывали такие захватывающе непредсказуемые диалоги, что моя персона попросту меркла рядом с ним. Его талант становился особенно заметен при большом скоплении зрителей и каждое его слово, подхваченное и расцвеченное множеством уст, обретало особый смак. Здесь, наверно, проявилась извечная русская страсть к юродивым.
Кроме того, он стал спасать меня от внезапных налётов учителей. К сожалению, подсказать заданный вопрос не мог, его память не вмещала столько посторонних слов, зато быстрым сжатием колен он предупреждал о том, что ко мне обращено высочайшее внимание.
Одну только Вредину обмануть было невозможно. Уж она-то ловила малейшее движение в классе. Её взгляд, словно хлыст, мурашками ходил по трепещущим спинам. Какие уж тут романы во сне и наяву!
Впрочем, в её присутствии я и не помышляла о романах. Вредина была чуть ли не единственным человеком во всей школе, способным пробудить меня от грёз. Её широкомасштабные боевые операции, достойные генерала армии, увлекали, как настоящее сражение. И – я боялась её! Но не столько её насмешек или её взрослой учительской власти – я боялась оказаться безоружной перед ней. Боялась увидеть в беспощадных ледяных глазах презрение. И потому не было предмета, которому я уделяла бы больше сил, чем алгебре и геометрии, скрупулёзно постигая эту изящнейшую игру в знаки и буквы. На уроках Нины Николаевны я страстно ждала своего выхода на сцену, надеясь снискать её одобрение. Но она неизменно была занята другими. Звенел звонок с урока, Редина выгоняла всех из класса, а я снова погружалась в свой очарованный сон, как сказочная принцесса, уснувшая от того, что её слишком больно укололи в этой жизни.
И потому я прочно и безучастно стояла в стороне от всего, что делалось вокруг, не имея никакого представления о том, что за люди мои одноклассники. Все они были невозделанной массой, назойливо пытающейся вторгнуться в мой ухоженный мир. А вся остальная школа была попросту «terra incognita», существование которой имело не более значения, чем какая-нибудь колония бактерий, выращенная в лаборатории имярек.
Мои глаза видели только одно – книгу, моя душа молилась только этой святыне. Книга всегда сопровождала меня и каждое мгновение готова была взять меня к себе. Я держала её так, словно обнимала любимое существо.
Что это были за книги, никто не знал. Они всегда были тщательно обёрнуты в бумагу, всегда ревниво охраняемы от любопытных взоров. Не только узнать заглавие, но даже прочесть хоть одно слово не было никакой возможности.
Я не любила признаваться, что именно я читаю, даже отцу, который следил за этим важным процессом и методически снабжал меня «трудными» классиками из библиотеки своего института. Но если, отложив в сторону Диккенса, я вцеплялась в любимый роман, признаться в этом было так же позорно, как исповедь или казнь.
Каждую перемену я пряталась в уборную – единственное недоступное мальчишкам место – и хорошо, что звонок на следующий урок длили целую минуту, иначе не избежать бы мне четвёрки по поведению за опоздания!
Я возвращалась к своей парте, пряча под фартуком книгу. И тут нередко происходило истинное чудо, к которому никак нельзя было привыкнуть. Это было чудо внезапного одушевления стихии:
– Долохова, дай списать задачку (дай лишнюю ручку, почитать учебник)? – человечьим голосом говорил Этот Самый.
И я неизменно расцветала, неизменно поражённая тем, что его вечный зык способен к столь выразительному звучанию. Ради такого превращения я была готова на большие жертвы.
Но злой дух был неподкупен. Ручки всегда возвращались мне изломанными, а учебники и тетради – испачканными. И сколько же было счастья в том, чтобы швырнуть их мне прямо в лицо! Каждый раз казалось, что такого буйного веселья я ещё не видывала.
Разыгрывать меня вообще было сущим удовольствием. Я никогда не задумывалась над тем, что правдоподобно, а что нет. Люди и их поступки были загадкой, которую у меня пока что не было никакой охоты разгадывать. Я твёрдо знала одно: все они объединены против меня самой природой и это их единственное занятие.
Поэтому даже девочки не могли иной раз удержаться от соблазна сказать мне:
– Сапа, уроков больше не будет. Айда по домам!
Этого было совершенно достаточно, чтобы я тут же покинула ненавистные двери школы.
Мне кажется, это и была самая главная причина всеобщего афронта. Они вынуждали меня повернуться, открыть глаза, подать голос – хоть как-то проявиться. Я же продолжала держать отчаянную оборону против вторжений своей подчёркнутой слепо-глухо-немотой. И теперь уже вряд ли можно понять, что было первично: их враждебность или моё отчуждение.