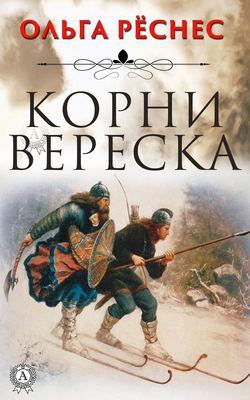Читать книгу Корни вереска - Ольга Рёснес - Страница 2
1
ОглавлениеОт торопливого лета ничего уже не осталось, да и кто вспоминает о лете в середине октября. Продрогшие от утренних заморозков камни, иней на мху, неохотно продирающееся сквозь гущу леса солнце. Солнце теперь не в силе, оно едва дотягивается до середины стоящей за домом сосны и тут же соскальзывает на дорогу, петлей обводящую засеянное озимыми поле с каменными, поросшими березами островками. Стая серых гусей, поднявшихся с фьорда, вспарывает мерзлый воздух сердитым, нетерпеливым гоготом, лодки вытащены на берег, деревянные мостки сняты с причала, и волны напрасно бьются о просмоленные столбы: сюда никто уже не придет.
Около восьми утра заморосил мелкий дождик, зашелестел, застучал, засуетился, прогоняя с кустов снежной ягоды запоздалых шмелей, прибивая к пожухлой траве сосновую хвою. С занавески, просунутой узлом между оконными рамами, капает на постель, и Хельге, не просыпаясь, протягивает к шпингалету руку, дергает крючок, зевает, бормочет ругательства. Вставать нет никакого смысла, разве что по нужде, разве что заварить чашку кофе и снова под одеяло, в бормочущие об одиночестве сновидения. Почти всю жизнь, а это пятьдесят три года, Хельге спал один, ну, конечно, с перерывами: кто-то приходит и уходит. Те, что живут за поворотом дороги, а это в большинстве своем просто люди, не знают, зачем человеку одиночество. Они приветливо кивают, порой смотрят на Хельге с любопытством, порой с завистью: весь из себя.
Не просыпаясь, Хельге замечает, что стало совсем темно, так темно и тихо, как случается у природы в миг ее изнеможенья: дальше один только холод. «Снег…» – думает Хельге, повисая между сновидением и явью, прислушиваясь к далеким, легким, знакомым звукам, к шороху и скрипу лыж… Сколько раз он все это видел: снег, обернувшиеся вековыми елями тролли… Холод, которому нет конца, лес, в котором нет дороги. Открыв наконец глаза, Хельге ищет на стене картину, вставленную им в растрескавшуюся дубовую раму. Собственно, это только бумага, засунутая под стекло. Теперь, в темноте, ничего не разглядишь, но он изучил эту картину во всех деталях, будто сам все это нарисовал: двое вооруженных викингов на лыжах, за щитом у одного ребенок. Эти лица кажутся Хельге чудовищно знакомыми: он сам кажется себе одним из них, и это… его щит! Картина, впрочем, слишком известна, чтобы отыскивать в ней таинственное; ее можно обнаружить на коробках с печеньем, на обертках от колбасы, на дешевых керамических кружках. Ею питается реклама, к ней прилагаются скучные ученые комментарии искусствоведов и краеведов: она есть тот продукт, который всегда можно сбыть. Хельге знал того, кто эту картину написал, знал и его дочь… к сожалению, знал.
Снег, первый снег в этом году, не обещает ничего хорошего: заноет спина, одолеет бессонница, в мастерскую, где сохнет дерево, войдешь только в резиновых сапогах. И кроме того, эта снежная меланхолия, это нежелание двигаться, на что-то смотреть… Только сидеть в продавленном кресле возле чугунной печки, с пивом и мрачными мыслями о недостаточной интеллигентности этой проклятой планеты.
Пройдя босиком по некрашенному полу, Хельге ставит на плиту чайник, мимоходом оглядывает себя в зеркало, стоящее на старом сосновом комоде, подходит ближе, приближает к овальной бронзовой раме лицо. Он редко так на себя смотрит, ему это незачем. На него всегда смотрят дети, часто смотрят женщины. Хельге Нордли, индустриальный рабочий, привычный к тяжелому, не престижному, не обещающему никакого статуса труду. Ему охота вот так, даже бесплатно, трудиться, без всякой со стороны других похвалы или зависти, а тем более, понимания. Ему достаточно знать, что трудится он над своей свободой.
Хельге знает свою свободу в лицо: оно сродни меняющему цвет морю. И крылья у нее тоже есть: синие, красные, оранжевые. Порой они занимают полнеба, эти величественные знаки его индивидуальности. Ради этой свободы, думает Хельге, человек столько на земле претерпевает, и сама земля столько из-за этого мучается.
Голубые, на загорелом лице, глаза, прямой львиный нос, растрепанные пшеничные волосы. Волосы Хельге не стрижет уже лет пятнадцать, они изнашиваются на затылке от подушки. Бывает, изредка и наспех пройдясь по волосам собачьей щеткой, Хельге вертит головой, присматривается, но седины пока нет, только овсяное, песочное, золотое. Но борода у него совсем белая. С этого лета Хельге перестал бриться, и борода закрыла уже выступающий подбородок, подбираясь к крутизне скул, оставляя загару высокий, гладкий лоб и суховатую впалость щек. Сексуальная такая небритость, теперь это в моде. Подумав об этом, Хельге берет с комода старые ножницы, лязгает, не глядя, бросает в печку обрезки седых волос. У викинга на картине борода намного длиннее, в ней ветер и снег, в ней хватает места всяким воспоминаниям. О чем может мужчина в свои пятьдесят три года помнить? О том, что не все еще в его жизни наступило?
С седой бородой Хельге кажется себе гораздо старше, хотя это пока еще не возраст его планеты. Родившись в 1946 году, на исходе декабря, на застланном домотканой дорожкой полу, не дожидаясь расторопной акушерки, он хотел было тут же и улизнуть обратно, загодя избавившись от обязательств перед родителями, школой и государством, но обнаружил в своем требовательном крике… крик другого, пока еще не родившегося, пока еще даже не определившегося с местом назначения и временем прихода. Этот другой был, видно, тем самым «почему» и «потому что», в связи с которыми Хельге и угодил в полярную декабрьскую ночь, в окрестности заледенелого Лофотена, в хлопотливое, скучное, мусорное выживание многодетной семьи, с видом на сладкий транс десертного поколения хиппи, с его цветочной тоской об оторвавшемся от земли мотыльке…
Хельге знает кое-что о своей родне: половину своей жизни они проводили в море, и никто из них не считал смерть несчастьем. Они уходили, один за другим, особенно к этому не готовясь, наверняка зная, что это не в первый и не в последний раз. Они-то знали… да и как не знать, если ты заодно с этими волнами и звездами. Все они играли с природой в одну и ту же игру, меняющую местами жизнь и смерть, и некогда было им о чем-то ином тосковать. И это должно быть сказано о них: старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу.
Многие из них встречали хульдру, и это было хорошим знаком: хульдра не приходит к кому попало, но только к своим. То есть, к тем, кто все еще видит. Они и были тем последним племенем на земле, у кого глаза смотрели не только на вещи. И Хельге был самым из них последним.
Раз, возвращаясь на лыжах из школы, чуть за полдень, в почти полной уже полярной темноте, то и дело вспарываемой лилово-зеленым салютом северного сияния, Хельге почуял за спиной чье-то присутствие. Кто-то гнался за ним с самой вершины холма, в облаке снежной пыли, в свисте встречного ветра, кто-то хотел его остановить. Крепко схватив, в толстых вязаных рукавицах, лыжные палки, Хельге рывком обернулся, рыкнул, как мог, как позволяло морозное дыхание, в преследующую его темноту: «Кто-о-о?» И темнота, видно, имела уважение к самостоятельности этого его поворота, к ярости и злобе его снежного крика: «Кто-о-о???» Лиловые нити северного сияния налились фиолетовым и алым, взметнувшаяся от лыж поземка засеребрилась в морозном воздухе тихим, еле слышным, едва отличимым от вздохов и сопенья смехом, и по лыжне скользнул коньком загнутый кверху мохнатый хвост… Хельге мог бы, пожалуй, схватить хульдру за полу длинной юбки, стащить с нее эту юбку, как он сдергивал юбки с девчонок, получая за это оплеухи, мог бы, хотя ему не было еще и десяти лет, повалить ее в снег, по крайней мере, погнаться за нею вверх по склону, но лыжня вела обратно к школе, а туда ему не хотелось. Школа, по мнению Хельге, была хороша только тем, что там давали горячие булки, в остальном же все шло как нельзя хуже: учеников старались сделать умными. Этот ученический, зависимый, горделивый ум Хельге ценил не больше, чем испачканные им самим пеленки. Этот ум никуда не годился, разве что для счета денег. И были, конечно, хорошие ученики, убитые расчетливостью родителей еще до рождения, эти подрастающие трупы, серые тени и борцы за идею, проштампованные, все как один, печатью власти: «Годен». Хельге сидел с одним из таких за одной партой, так хотела учительница, а на переменах делал то, чего она как раз не хотела: лупил соседа, валил его во дворе школы на землю и… мочился на него. То же самое делал живший в доме кобель, крупная лайка с зелено-голубыми волчьими глазами: мочился через железную сетку на гремящего цепью соседского волкодава и забрасывал его комьями земли. Так поступает сильный, свободный, презирающий неволю. И никто еще на это не жаловался, потому что нет такого Бога, который не был бы обязан своими полномочиями тебе.
Встреча на лыжне с хульдрой оказалась вовсе не безобидной: у Хельге появилась тоска о форме. Круглое, овальное, яйцевидное, спиралеподобное, все это претендовало на ту универсальную законченность, да, конечность, с которой никак не вязались школьные сведения об устройстве прилегающего к Лофотену мира. Мир рвался в уносящееся прочь от Хельге ничто, в ледяную абстракцию оторванной от Хельге необходимости, с ее удушающим «так нужно», не оставляя никакой надежды на признание своим абсолютным смыслом его, Хельге, конкретность. Конкретность бегущей по лыжне хульдры.
Виной этого «отклонения» был, по мнению учительницы, стремительный, без услуг акушерки, приход Хельге в мир: ну кто так сюда приходит? Сюда приходят в основном с каким-то расчетом, с опаской обходя ловушки аборта, воровато и вслепую нащупывая оброненную смертью мелочь. Хельге пришел, чтобы испытать себя на прочность: сколько он сможет, собственно, вынести. И если бы заботливый ангел распорядился насчет более теплых мест и более богатых родителей, Хельге вряд ли бы на это пошел: он хотел именно сюда, на обледенелый берег Лофотен-фьорда.
Его мать доила коров, когда услышала во дворе тарахтение работающего вхолостую мотора, и то, что она увидела минутой позже, осталось с ней на всю жизнь: перевернувшийся на подходе к амбару трактор придавил насмерть ее мужа. Рычащий мотор, вертящиеся в воздухе колеса, кровь на покатом деревянном настиле… В тот день ее шестеро детей стали бедняками. Коров пришлось продать, и они, расставаясь с хозяйкой, плакали, все как одна, сентиментально и по-коровьи, и Хельге долго потом душили эти слезы, бессловесно выплаканные в школьный мир бесконечных, отрицательных и мнимых величин. Зная больше от коров, чем от учителя математики, что всякая мнимость рано или поздно обернется реальным чувством, что пережить отрицательное на пути к своей планете не составляет никакого труда, и что хваленая учителем бесконечность обязательно упрется в скалу, став снежным смехом хульдры, Хельге нарисовал круглый, с окнами на все стороны, дом и тайком переселился в него. Дом стоял на вершине горы, на каменной замшелой плите, окруженный приплюснутыми ветром березами и вереском. Порой туда наведывалась хульдра, садилась на камень над самым обрывом, распускала длинные, до кончика хвоста, косы, расчесывала костяным гребнем волосы… Ах, эти льняные, пахнущие мохом космы! Она разувалась, снимала толстые вязаные носки, разглядывала свои босые ступни. Такие красивые ступни были, пожалуй, только у Хельге, весь мир мог бы ими, при желании, любоваться. Но мир предпочитал любоваться бесконечностью.
От круглого дома, нарисованного в детстве, у Хельге осталось, в его пятьдесят три года, переживание своей в мире единственности. В доме его родителей, правда, не было ни одной книги, даже Библии, где можно было бы справиться о причинах этой единственности. Да и кому она, единственность, теперь нужна? В Лофотен рано приходит зима и убирается восвояси лишь в мае, уступая торопливым дождям и лижущему ледники солнцу, и море, отдохнув от штормов, делается прозрачным до самого дна, и ты обнаруживаешь лежащую на песке, под толщей соленой воды, синеватую раковину… много-много любующихся собой отдельностей, в каждой из которых что-то есть… Что есть в тебе? Ты окружен миром, воздухом и морем, формой и веществом своего тела, и ты есть, бесспорно, центр всего этого. Ты, в раковине твоей отдельности.
Хельге понадобилось пятнадцать лет, чтобы подготовиться к уходу из дома. Ни с кем не простившись, он просто сел на корабль, отплывающий из Лофотена в Берген.
Он подметал на корабле полы, мыл на кухне посуду, пёк блины на огромных сковородках, жарил рыбу и тресковые языки, и много было вокруг него такого, чему он не желал вовсе учиться. В каюте, где он спал вместе с другими рабочими, пили крепкий самогон и лежали по очереди с поварихами, но он ничего этого не хотел. Он, навсегда прельщенный хульдрой. Только она одна и могла его надолго приманить, завлечь в облако снежной пыли, посадить в санки, пригреть в каменной хижине у огня. Он мог бы, пожалуй, на этой хульдре жениться, почему бы и нет. Обзавестись длинным хвостом и длиннохвостыми детишками, завести овец, коз, кур… Дома, в Лофотене, ему нравились замужние женщины, такие, что еще не выгорели дотла, и как-то раз женатый приятель всадил ему в бедро вилы, основательно, со всего размаху. Хельге и сам не прочь был теми же вилами пригвоздить приятеля к дровяному сараю, чтобы тот немного остыл и просох, но передумал и ушел ни с чем, только наследил возле дома кровью. Хельге подумал тогда: «В той, прошлой моей жизни я многих дуралеев угомонил, да, многих, но они, к сожалению понародились снова, проклятые!» Он не хотел больше никого убивать, он так решил. В детстве он как-то пришиб камнем лягушку, и все, что было у нее внутри, оказалось снаружи. Он долго смотрел на изуродованное им животное, потом завалил труп камнями. Нет, он больше не этого не хочет.
Первую книгу он прочитал, когда ему исполнилось тридцать. Прочитал основательно, пристрастно, исписав две толстые тетради собственными комментариями. Эта книга предназначалась немногим, хотя читали ее все. Может, одному ему она только и предназначалась. Он взял ее у мормона, работавшего вместе с ним на фабрике стекла в Моссе, и оказалось, что есть еще много других не менее занятных книг, хотя мормон сказал, что ключи к пониманию всего этого давно уже утеряны. Насчет ключей Хельге всегда сомневался, и если какая-то дверь и оставалась, вопреки его желанию войти, запертой, он попросту снимал ее с петель. «Я сам, – не раз думал он, – и есть ключ».
На фабрике он научился видеть стекло, оживленное неровностями и неправильностями старое и стерильно ровное новое, научился смотреть сквозь. К стеклу прилагались формы, в формах расцветало воображение. Вообрази, что в этом зелено-голубом шаре, живет человеческий зародыш, в этом космическом равновесии между центром и сферической периферией, и трудится над ним вся вселенная, включая отдаленные созвездия Зодиака, весь мир волит к этой единичной, единственной, жизни. Мормон, выдувавший из расплавленного стекла банки для варенья и бутылки для сидра, так не думал, его интересовало только количество, на котором и строилось будущее благоденствие исполнительного и дисциплинированного мира. Количественное, статистически прогнозируемое счастье. С этим Хельге меньше всего хотел иметь дело. Болтовня о счастье нужна тому, кто не готов к испытаниям. У счастья всегда есть групповой привкус. Испытанию нужен ты сам.
Выдувая из стекла круглые и цилиндрические формы, отыскивая в них следы спиралей и лемнискат, Хельге попросту удирал из жестко количественного, домогающегося дурной бесконечности мира, да, покидал представления о физическом пространстве. «Где-то, – думал он, – должен быть переход в мнимость, в отрицательность, в реальность иных измерений». Он подозревал, что Бог, каким его видит церковь, это всего лишь псевдоним того, кто ищет в мире смысл и при этом сам увиливает от ответственности. «Бог, – думал он, – не может быть от меня независим! Бог дал мне то и это, оторвал от себя, снабдил меня запасами, снарядил в дорогу, и я должен все это вернуть на исходе экспедиции… вернуть в виде любви и свободы!»
Он узнал это от прохладных белых ночей с распускающейся черемухой, от переливающихся северным светом зимних дней, от снятой им с крючка и выпущенной в море трески, от пасущихся среди коровьего стада диких гусей и вскрикивающих среди клевера чибисов… узнал в самой форме своих мыслей: свобода есть выстраданная тобою благодарность этому прекрасному физическому миру, и она не обретается сообща, но вырастает из тебя самого. Это мера твоей глубины.
Шеф фабрики высмотрел Хельге среди других рабочих: высмотрел гения.
Он зовет Хельге к себе в кабинет, наливает кофе, предлагает шоколад. Он уже довольно стар, и он помнит, как однажды встретил на Карл Йохан великого Гамсуна… да, да, поднадзорный арестант-писатель шел сквозь улыбающуюся ему толпу, не слыша ни брани, ни комплиментов, он был, слава Богу, уже совсем глухим. С гениями всегда так: при жизни их забивает сорная трава. Гений ни за что не борется, он только горит. Горит один, в темноте. Вопрос только в том, насколько его хватит. И можно ведь немного ему подсобить, смягчить условия, сэкономив тем самым топливо… Короче, дирекция фабрики предлагает Хельге стать главным технологом. С таким, как у него, пониманием форм и линий, с таким видением материала можно удвоить и утроить количество производимых банок для варенья и бутылок для сидра, можно превратить весь мир в склад стеклотары!
Старик говорит еще, правда, в приватном порядке, что готов в ближайшие годы уступить Хельге этот свой кабинет, директорский кабинет. И он может поклясться своим опытом и возрастом, что никто никому за всю историю фабрики таких предложений не делал. На это Хельге только усмехается: «Но ты, возможно, станешь первым, кого бы я уволил». Старик смеется, он не обижен. И Хельге просит у него отпуск… нет, не две недели, ему нужно… полгода. Полгода суверенной незанятости. Старик понимает, эх, что все это означает, и отпускает Хельге на все четыре стороны.
Дать деру хотя бы в лес, среди зимы, взяв с собой только спальник. Топить на костре снег для кофе, спать, зарывшись в сугроб. Никто не потащится за ним следом, даже Хиллари… при мысли о ней Хельге самодовольно усмехается: эта индейская скво! Хиллари живет с ним уже несколько месяцев в дешевой двухкомнатной квартире с видом на городскую мусорную свалку. Место это совсем не плохое: над присыпанными землей горами мусора кружат тысячи чаек, напоминая своими криками о близости моря, и если присмотреться, можно разглядеть вдали полосу фьорда. Хиллари курит самокрутки на огороженном пластиком балконе, сушит белье, жарит кукурузу и вафли, скучает о Техасе. Она тоже ходит на фабрику, встает в четыре утра, несмотря на свой высокий статус психолога. Психолог, он же чья-то правая рука, необходим в производстве наряду с электричеством и сырьем, и если что-то где-то не так, и если это к тому же не ваше дело, психолог аккуратно вынет у вас мозги, положит на блюдце с королевским голубым узором, и вам же эти ваши мозги скормит: жрите, друзья!
Хиллари недаром маялась три с лишним года в американском университете: ее диплом бакалавра сияет наподобие втиснутого в золотую оправу солнца, и нет ни одного на фабрике турка-вьетнамца-пакистанца, которому не хотелось бы на фоне этого диплома ну что ли… воссиять. Правда, стекло, даже зеленое бутылочное, с четко выдавленным фабричным знаком, могло бы поставить свою прозрачность против мутности психологических доводов Хиллари, но это же стекло… Психология, это спрос, сиюминутность, это прежде всего дозволенность. Это к тому же удобства: доступность-доходчивость-достаточность. Скажем, заходит кто-то в цеховой душ, а там, на сверкающем кафельном полу… куча говна. Говно свежее, сегодняшнее, и это наводит психолога на мысль об актуальности происшедшего события: тут насрал какой-то турок. Да он, глядите-ка, насрал еще и тут… и там… и это притом, что в душе имеется замечательный, сверкающий кафелем и зеркалами туалет! Почему, задается вопросом психолог, турок предпочитает срать на пол?!
Не на все, конечно, вопросы у Хиллари есть достойный ответ, достойный ее американского диплома. И бывают минуты, ах, когда ей приходится брать у Хельге взаймы… ну что ли приворовывать. Хельге не бережлив, он ничего не копит, и завтрашний день интересует его не больше, чем день вчерашний. Он ценит, пожалуй, только свою планету, и никого он туда с собой не зовет. Хельге известно кое-что о таинственном… и откуда только ему это известно! Школы, университеты, ложи, они больше не нуждаются в истине. Бывает, добирается туда, спотыкаясь и ковыляя, замученная до смерти полуправда, косая, кривая, косноязычная, и ее тут же возносят до самого высокого, какой есть в ложе-университете-школе, градуса: пусть там, сердечная, кипит! Кипит, выпаривается, выпадает в осадок, ржавеет. «Кухня», – скажет ученый, «лаборатория», – поправит повар, «сортир», – уточнит голодающий.
Хиллари вызнала у Хельге, что он собирается на… Юпитер. Под кроватью у него полно пустых чемоданов, он подбирает их на городской свалке: он намерен увезти с собой полмира. Вот куда следует заглянуть психологу: под кровать! Продуктивная психология тем и отличается от психологии вообще, что не гонит прочь таинственное: она к нему приценивается и… сует под прилавок. Не только втридорога продать, взяв даром, нет: ускакать на этом таинственном дальше, куда никакая психология своим ходом не доберется. Кто владеет таинственным, тот владеет миром.
Хиллари не сомневается в том, что Хельге с нею особенно счастлив. Других он просто катал на мотоцикле, приводил на ночь, но с ней… Он живет с ней без всякого расчета: она для него испытание. Сколько едкого психологического дыма и чувственной ненасытности сможет он вынести? Он знает, что это война, и притом затяжная, в которой воюет только одна сторона, не замечая, что бьет по своим. «Бей, – усмехается он про себя, – бей эту стену своей же индейской мордой!» Впрочем, Хиллари чертовски красива: черные сияющие глаза, смуглая кожа, смоляные, до пояса, волосы, кошачье тело. Он мог бы сказать, пожалуй, что любит это тело, да, этот взрывоопасный жар, проникающий до самых его костей. Он лежит с Хиллари каждую ночь, и ночь не может их обоих насытить.
Но теперь он желает для себя… незанятости.
Он едет с работы на велосипеде, в пятнадцатиградусный мороз, он перед этим вымылся в душе, и некогда было вытереть волосы: они звенят на затылке сосульками. Над пеленой снежного тумана, плотно лежащего над белой равниной поля, видны головы трех всадников, скачущих в сторону заросших лесом холмов. Он различает среди них женщину с развевающимися рыжими волосами, и когда туман отпускает на миг спрятанные в нем тела, он узнает ее, он видел ее не раз: в длинной вышитой юбке и лисьем полушубке, ее не спутаешь с другими. Дочь известного в этой местности художника. Он слышит, хотя всадники далеко, стук копыт по мерзлой земле, чувствует диковатый аллюр одетого в черный балахон коня. По этим пустым зимним полям пробегают изредка косули, дразня нетронутую белизну игривыми следами копыт и катышками помета, и лыжник, бывает, петляет среди разделяющих поля канав с незамерзающими ручьями, ища короткий к лесу путь. Там, на заросшем елями и березами холме, навалены груды камней, когда-то принадлежавших морю, и вся эта равнина была когда-то морским дном, недаром бонды, собирая осенью картофель, свозят отсюда каменную мелочь, год за годом, и камней не становится от этого меньше. Почти три тысячи лет лежат морские валуны на вершине холма, и в те времена, когда море подступало ближе, на холме хоронили всех, кто тут жил, без каких-либо различий на знатность или бедность. И многим, конечно, доводилось тут снова рождаться и снова быть погребенным на холме, снова и снова, так что места эти вполне обжитые. Втиснувшийся между побережьем фьорда и железной дорогой Харпестад: церковь, кладбище, поля. Здесь можно отыскать пустой возле леса дом, заброшенный крестьянский двор, можно жить почти бесплатно. Хотя, конечно, здесь скучно, почти как в ссылке, здесь ты никому не нужен.
Именно такое место, совершенно не привлекательное для других, Хельге давно искал. Это прямо-таки королевская привилегия, когда ты один владеешь окружающим тебя пейзажем, одному тебе неспешно рассказывает о прожитом дне черный дрозд, одним тобой наполняются величественные фиолетово-алые зимние закаты. Харпестад никакой не город, это скорее дорога, вдоль которой стоят на зеленых лужайках виллы вперемежку со старыми крестьянскими дворами. Здесь по-прежнему разводят овец и коров, сажают ячмень, овес, пшеницу и картофель, по-прежнему вырубают лес. И время здесь особенно не спешит за последними из газет новостями, оно здесь отдыхает.
Но прежде чем перебраться в Харпестад, надо на время… исчезнуть. Так, чтобы никто не увязался следом, не схватил за руку, не отговорил. Нужен долгий и совершенно особенный отпуск. Заметающее следы отсутствие. Можно, конечно, поселиться на парусной лодке, спать в любую погоду под брезентовым навесом, ловить рыбу… Нет, рыбу Хельге сам никогда не ловит, только выпускает, бывает, из сети обратно в море, тем самым содействуя деловитому оптимизму природы: рыба дает смысл воде. Его верткий ялик, Осло-йолле, с самодельным четырехугольным парусом, вполне годится для бездомных вдоль побережья странствий, безадресных остановок на безымянных островах, голубого солнечного дрейфа в подернутых дымкой далях. Лежать на дне лодки и слушать. Слушать, слушать… Слушать и быть заодно с неустанной, навязчивой болтовней волн, с их плеском и шепотом, с их дразнящей ветер беспечностью. Тяжелые серо-голубые облака над синей неровностью обступающих фьорд берегов, холодная нагота скал. Эта немногословная красота вовсе не является для Хельге самоочевидной: что стало бы с фьордом и морем без него самого? Он знает, что все это есть в нем самом, этот холод и мощь, эта молчаливая неприступность, не ожидающая для себя ни оправданий, ни похвал. Природа показывает ему лишь частности, тогда как общим ее случаем является он сам, Хельге Нордли, и это с его прежних обличий природа снимает свои бесчисленные копии… Лежать на дне лодки и пытаться вспомнить себя.
Но можно уйти дальше изрезанного фьордами побережья, уйти так далеко, что никто даже и не помыслит себе эту отдаленность. Даже Хиллари, алчущая его планеты. Она примеряется к его расстояниям, вгрызается в его время, она хочет этим владеть. Разве может кто-то владеть его свободой?
Он купит билет на датский пароход до Фредриксхавна, а дальше… только газетные ищейки и могут пронюхать эту в общем-то новость: какой-то придурок едет на велосипеде от Скагена до Сахары. Вот он, Хельге, в единственных своих дорожных штанах и с маленьким рюкзаком, и в рюкзаке у него десяток запасных покрышек. Таким его проглотит история, и нет ей, собственно, никакого дела до причины его бегства. Пока будильник не взорвался еще требовательным воем, пока Хиллари досматривает утренние клубничные сны, он встанет и тихо закроет за собой дверь.
В овальном зеркале умещается по меньшей мере половина его жизни: натруженность, обветренность, усталость. И если отойти чуть подальше, к самой границе детства, откуда так отчетливо слышны призывы судьбы, можно разглядеть едва проступающие сквозь стеклянную толщу лет знаки: скоро, теперь уже скоро… Да разве Хельге, в свои пятьдесят три, чего-то еще ждет?
Дрова, брошенные в чугунную печку накануне вечером, подсохли и прогрелись за ночь, осталось сунуть туда скомканную газету, брызнуть на нее керосином. Оторвав кусок газеты, Хельге неспеша читает теснящие друг друга объявления: кто-то кого-то ищет. Он и сам, бывало, такие объявления писал, бывало, кто-то его находил, скорее всего по ошибке, какая-нибудь умирающая от скуки осенняя дама, и следом за прохладным, вкрадчивым любопытством гналась уже зима, с ее бескомпромиссно холодным «нет». Но здесь, на этом газетном клочке… Хельге снова читает объявление: вот оно, ни с кем еще не разделенное лето! Лето к тому же русское, не гарантирующее никакой погоды. Одно, может, сплошное ненастье, кто знает. Но это все-таки лето! Золотые подсолнуховые дали, полуденный над степью зной, распахнутость колокольного, над рекой, неба… Это и есть тот самый Восток, откуда приходят пока еще не укрощенные благоденствием мысли. Мысли о важном, о главном.
Но что же с этим неизвестным русским летом делать теперь, накануне зимы? Догнать! Поймать! Схватить! Пережить жар чужой свободы! Обнять другую, устремленную именно сюда судьбу! И не спрашивать себя, не домогаться, не выяснять, откуда он, Хельге, это знает: что эта чужая судьба устремлена именно к нему.
Такие объявления пишет либо тот, кто совсем уже умер от скуки, либо тот, кто отчаялся. От скуки можно забрести в лес, отчаянию нужны высоты. Такие высоты, с которых не грех и сорваться. «Вот он, – скажут, – и покорил эту высоту». То есть свел с собою счет. Да вот, кстати, и сам этот счет: дети, университетская карьера, болезни. Сорок семь килограммов живого пока еще веса.
Серафима.
Взяв с полки ножницы, Хельге аккуратно вырезает объявление, снова читает, хотя уже помнит его наизусть, мысленно озвучивая слова тем, чужим, голосом. Разве не слышал он уже когда-то этот голос? Давно, так давно это было… Так давно, что невозможно уже припомнить, как тебя самого тогда звали. Только смотреть в глубину схваченного бронзой зеркального овала, только пытаться увидеть… пытаться пережить обращенное к тебе ожидание… Сколько, должно быть, пришлось этой женщине ждать! Почти столько же, сколько ему самому. В этой овальной пропасти судьбы горят и другие ориентиры, как отсвет позолоты на старой бронзе, в этой сумеречной глубине слабо мерцает удивленное «Ты?…», рискуя быть съеденным алчным и вечно голодающим «Я!» Не ты ли это написал самому себе письмо? Ты долго ждал этого письма и наконец решился… наконец-то! Ты знаешь его наизусть, ты сам же его и выдумал. Ведь только самому себе и можно такое написать. Это короткое, в несколько строк, объявление, висит должно быть в пространстве уже не один год, довольствуясь холодом голубых высей: кончится жизнь, уйдут в никуда слова, останутся только переживания… как они горячи! «Я хочу переживать все это с тобой, хочу переживать тебя!»
Взяв с комода вставленный в оловянную оправу спичечный коробок, Хельге смотрит некоторое время на свою седую, в зеркале, бороду, неспеша зажигает толстую, сидящую на грубом деревянном подсвечнике, свечу. Так, со свечой, теплее. Свеча, чугунная печка, дрова… мыши. Сколько он уже так зимует… или он просто ждет? Ждет, что кто-то напишет ему что-нибудь стоящее. Борода поседела, но тело, эти кости и мышцы, годятся еще на многое.
Он выходит босиком на террасу, бросает птицам на снег ломти вчерашнего хлеба, замечает возле самой двери мышь, возвращается на кухню, отрезает ломтик сыра. Он не имеет ничего против птиц и мышей, а также ос и диких пчел, занявших в доме все щели, не говоря уже о длинноногих пауках, зимующих за занавесками, этих невесомых «математических точках», переживающих путь и время. Снег на террасе и на газоне перед домом к полудню тает, выпуская из мимолетного плена пригнувшиеся к земле ветки кустарника с последними, едва заметными блекло-розовыми цветками, полусонный шмель ошалело стукается о стекло, валится на подоконник, карабкается по ветке к цветку… По снегу бежит, от сосны до сосны пересекая лужайку, белка, она знает, что Хельге теперь на нее смотрит, и поэтому то и дело останавливается, становится столбиком, оглядывается. Его седая борода, как и голубоватая беличья шкурка, надежный знак зимы. Что может быть надежнее холода?
Сунув в печку березовое полено, Хельге наливает в медный кофейник кипяток, дает кофе настояться, пьет. Пить кофе умеют только на севере, гораздо севернее этих мест, в ненастную, штормовую погоду, неделями не выходя с рыболовного катера на сушу. И то, что Хельге родом оттуда, дает его холоду власть над соблазном отогреться: так выживает в одиночестве тоска и мечта, так врубается в лед опора.
Он снова, перед тем как собраться на работу, смотрит на вырезанный из газеты клочок бумаги: неужели это и есть конец его ожидания? Странно, так странно, так требовательно говорят к нему эти несколько строк. Надев залитые краской и машинным маслом джинсы и растянутый в рукавах свитер, он закрывает печную заслонку, задувает свечу. Он выбрал эту работу неспроста: тут он один и вся ответственность только на нем, тут не играет никакой роли авторитет или статус, и нет ему никаких помощников. Он сам, с учетом своей силы и своей скорости, сделал этот пескодувный аппарат, такой нигде не купишь. Много железа прошло через его руки: корпуса грузовиков и тракторов, моторных лодок и нефтяных барж, портовых подъемных кранов и всякой бытовой мелочи, от чугунной сковородки до заржавевших гаражных ворот. В адской пыли и оглушительном грохоте, в длинных, до локтя, рукавицах из толстой свиной кожи, в стальном шлеме с противогазом и непробиваемом комбинезоне, он сводит счет с недолговечностью всякой ржавчины, всякой, какая ни на есть, краски, возвращая металлу его сверкающую суть. Он израсходовал горы песка, и он любит эту свою Сахару, возвращаясь к ней день за днем, год за годом: песок сидит у него в волосах, вытряхивается из карманов, набивается в ботинки. Хороший песок, ровный и мелкий, почти как в пустыне.
Он сбивал ржавчину со старых корпусов судов, один, без помощников, ползая по вертикали с альпинистской страховкой, и за это ему хорошо платили. Достаточно хорошо, чтобы вызывать у других зависть. К зависти прилагается, как правило, подозрительность: «Сам?… Один…?», следом за которой неизменно спешит ненависть: «Он один это и может!»
Франк, он же Лестничный Франк, завидует Хельге во всем, что бы тот не делал: Франк по-своему его любит. Эта зависть-любовь с годами только сплетает теснее их судьбы, делая из неудовольствия привычку: «Опять ты, паскуда, здесь…» Хельге никогда не зовет Франка по имени, обращаясь к нему с одним и тем же, из года в год, приветствием: «Ты, я вижу, уже на ногах?» И Франк, конечно же, на ногах: его ставит на ноги умение казаться полезным. Какой только пользы он не приносил окружающим! Он собирает и перепродает старые вещи: тяжелую дубовую мебель из крестьянских усадьб, отправленные на свалку американские автомобили, рыбацкие лодки, велосипеды, не говоря уже о таких мелочах, как компьютеры и мобильные телефоны. Франк охотно получает подарки, в том числе и от женщин: постельное белье, мыло, свечи, туалетную бумагу… От Хельге он тоже получил кое-что, и все благодаря своей зависти: просторную мастерскую вместе с машинами и оборудованием. Хельге отдал это бесплатно и насовсем, отдал в момент своего процветания: ему надоело, вызывая у многих зависть, делать деньги. Никто в Моссе так бы не поступил, разве что сумасшедший, никто не мог бы позволить себе такой свободы. Но Хельге мог. Он только попросил у Франка место под навесом, где можно, ни с кем уже не конкурируя, потихоньку управляться со своим «адом»: пылить и грохотать. И Франк, подумав, отдал Хельге свободный угол.
Хорошо, что в этот его «ад» не ломятся другие.
В дровяной сарай намело снега, и, опуская брезентовый полог, Хельге замечает на распиленной доске нацарапанную ножом надпись: «Я была здесь. Твоя». Он сразу понял, что это Монти, только она одна себя так называет: Твоя. Сметя ладонью с доски снег, он долго смотрит на крупные, заметные издали буквы, и внутри у него отчаянно жжет, и он понимает, что плачет без слез. Он знает, чего стоит эта скорбь любви, эта невозможность любовь с кем-то разделить. Разделить можно постель, стол, машину. Но чтобы кто-то нес твою жизнь в своей жизни, как редкую морскую раковину в ладони, такое Хельге никогда не встречал. Еще раз прочитав нацарапанные ножом слова, он ломает доску об колено: дрова! Садится в машину, включает снегоочистители, медленно выезжает на дорогу. И из подернутых снежным туманом полей бежит по следу колес продрогшая весть: «Твоя!.. Твоя!.. Твоя!..»