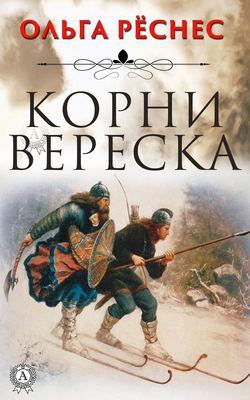Читать книгу Корни вереска - Ольга Рёснес - Страница 3
2
ОглавлениеМонтсеррат.
Имя горной вершины, укрытой облаками и снежной пылью лавин. Имя недоступной, пугающе явной красоты, манящей иллюзией близости. Это имя дал ей отец, Гейр Сивертсен, известный в Харпестаде художник, и эта известность кое-что значит и после его смерти. Во всяком случае, свою единственную дочь он заранее избавил от скуки и маяты трудоустройства, оставив ей и ее матери неиссякаемую акционерную ренту, спрятанное в лесу поместье и две дачи, в Испании и на маленьком островке в Осло-фьорде, где в бревенчатой, хорошо протопленной мастерской Монтсеррат и появилась на свет в конце ноября, тридцать шесть лет назад.
В свои цветущие шестнадцать Монтсеррат не казалась Хельге интересной: одна из тех, кому не лень быть у всех на виду и водить за собой в лес мальчишек. Он сам бы с ней тогда не пошел, не о чем было с ней говорить. Позже, поселившись на заброшенной даче в окрестностях Харпестада, он услышал о ней странные вещи: Монтсеррат умеет смотреть в прошлое. Что она там, в прошлом, ищет, никто не знает, но она туда смотрит. В мастерской Гейра Сивертсена до сих пор валяются рисунки, наводящие на след ее странных рассказов: тут пьяная свадьба на речной переправе, там казнь на снегу… Даже свою известную, с двумя викингами, картину Гейр Сивертсен написал со слов Монтсеррат, откуда только она все это узнала… Она словно водила его рукой, вдыхая непринужденность в напряженные позы идущих по снегу викингов: она знала то, что знали они.
Гейр Сивертсен был почти ровесником Хельге, оба часто обедали в кафе на бензоколонке, заказывая один и тот же перечный бифштекс с вареной картошкой, и газетные новости были для обоих одним и тем же: старой политической блевотиной одних и тех же обожравшихся властью недоумков. Оба не сомневались в том, что политик должен непременно хотя бы в чем-то быть инвалидом, иначе ему с собой не сладить. Раздавить, растоптать и по возможности вывести из употребления свою от других отдельность, заменив ее на безвкусно-тошнотворное «мы, вы, они». Куда интереснее было говорить о старых, преисполненных глубокого смысла вещах, все еще попадающихся в пропахших плесенью и пылью магазинчиках: о чугунных печках, медных ведрах, свинцовых оконных рамах с цветными витражными стеклами, да просто о старых гвоздях… Говорили они и о крови викингов, особенно, впрочем, не веря в генетику, поскольку этой науке ровным счетом ничего не известно о странствующей из жизни в жизнь вечной человеческой основе. Ген, это такая же абстрактная бессмыслица, что и атом: сколько ни болтай о его «сложном строении», сколько ни находи зримых доказательств его «структуры», все равно что-то незримое ускользает… Что…? Куда…? Гейр Сивертсен был уверен, что к тебе: чем бесстрашнее ты к себе приближаешься, тем больше ты знаешь о мире. Старая в общем-то песня. Старые вещи гораздо прочнее новых.
Старый бревенчатый дом на маленьком острове, он простоит еще сотни лет. Сбивая со стен струей песка растрескавшуюся краску, Хельге проводит рукой по шершавой, с выдолбленными прожилками, деревянной обшивке, пробует ногтем твердость дерева. Он покрасит дом заново, возьмет, не считая, деньги… нет, деньги его вовсе не интересуют. Он любит бывать в мастерской Гейра один: смотреть, как приливает к рисункам и эскизам спрятанная от нормального глаза жизнь цвета. Он видит, что Гейр ушел достаточно далеко, дальше тех мест, откуда еще можно вернуться, да, шлепнуться в скуку известности и успеха. Он видит, с каким неимоверным трудом Гейр добирается до своего, среди солнца и льда, одиночества: Гейр вовсе не родился таким, но… дорос до этого. Так вырастает на каменистом острове прижатая ветром к скале сосна. У этого роста есть свой вдохновитель: препятствия. Пробиться сквозь щель, проломить камень. Тяжелая, без выходных и отпусков, работа. Часто бесплатная, никем не замеченная. Об этом Хельге никогда не говорил с Гейром, и оба знали, что так оно и должно быть: одинокому одиночество. Хельге и сам часто рисует: куполообразные, яйцевидные крыши, лемнискаты-колонны… И хотя это для него только забава, способ коротать одинокие вечера, он не прочь узнать мнение Гейра. Иногда ведь и самому одинокому нужна компания, да, ненадолго.
Он пришел к Гейру домой, в лесное поместье на окраине Харпестада, и его встретила одетая в черное дама, и трехцветный флаг перед домом был приспущен, а в высокой, отделанной глазурью вазе увядали белые лилии. И Хельге понял, что опоздал. Он знал, что так оно даже лучше, когда появляется возможность из этой жизни уйти, и он улыбнулся одетой в черное вдове. В конце концов все мы пришли оттуда. Больше ему нечего было ей сказать, он только молча взял у нее пакет, в котором лежали недавно купленные ботинки: Гейру Сивертсену они уже не нужны. С этим пакетом и папкой своих рисунков он пошел обратно к оставленному возле конюшни вольво, мельком глянул на лошадей на огороженном проволокой пастбище, заметил одетого в балахон коня. Этот конь явно был тут вожаком, необычайно рослый, со смоляной гривой и густым, до земли, хвостом: он таращил на Хельге диковатые глаза, подозрительно втягивая ноздрями воздух. Скорее всего, этот конь был безумен, из тех, кого загоняют насмерть паника и страх. Но для Хельге это ничего не значило, он мог говорить и с сумасшедшим, мог дать ему хлеба, мог крикнуть, ударить ногой в зубы… Он не позволит животному иметь над собою власть. Подумав так, Хельге улыбнулся коню, и тот, еще больше тараща из щелей балахона глаза, заржал. Из конюшни вышла Монтсеррат.
Она не была, как мать, в трауре. Высокая, она казалась еще тоньше и легче в длинной темно-зеленой, расшитой розовыми цветами юбке и белой рубашке с серебряными пуговицами. У Хельге перехватило дух, он не ожидал такое увидеть: эту зрелую, требовательную, самодостаточную красоту. Туго стянутые хвостом рыжие волосы, густые светлые брови над смеющимися синими глазами. Она смотрит на Хельге без малейшего смущения, словно он был тут частым гостем, смотрит и оценивает. И он, не раздумывая, идет ей навстречу, идет своей легкой, каждый миг готовой обратиться в прыжок, походкой, настороженный и распахнутый настежь, подходит почти вплотную и тут же отходит назад, и снова подходит… Так знакомятся крупные хищники.
– Монтсеррат, это я, – вливая тягучую синеву в его прохладный голубой взгляд, начинает она и тут же берет его за руку, бегло гладит его мозолистую ладонь, смеется. Дерзкая! Она изучает его, испытывает. И он позволяет ей это делать. Он принимает как должное ласкающую его, перехваченную налету мысль: «Ты старше меня на семнадцать лет, но сколько в твоем теле силы!» Он и сам это знает: такое, как у него, тело не дается просто так, оно ничем не обязано ни глупейшим тренажерам и еще более глупым диетам, это тело выстрадано трудом. Эти мозоли и твердые, как камень, мышцы, это дорого стоит. Смеясь, она как бы случайно касается лбом его плеча, и он только молча следит за этой ее игрой, и каждый миг в нем раскрываются бездны и пропасти, – Покажи, что у тебя в папке!
Фыркнув и пристально глянув ей в глаза, Хельге достает рисунки, раскладывает их на подстриженной траве: шаровидные дома с раковинообразными балконами, причудливо округлыми дверными и оконными наличниками, расходящимися веером ступенями, нарядными башенками над печными трубами, похожими на распускающиеся бутоны террасами… Такие дома неминуемо посрамили бы благоденствующую Икею, поэтому никто их и не строит, нет, никто о таких формах ничего не слыхал.
– Ты можешь продать эти рисунки в Осло, тебе хорошо заплатят.
Хельге снова фыркает, он и сам это знает. Знает, что он один только и может такое придумать. Его вовсе не интересует строительство, разве что сооружение наружного, из толстых бревен, сортира… Кстати, это единственная его недвижимость.
– Ты так беден?
Он не отвечает. Зачем она его об этом спрашивает? Ей вряд ли будет интересно узнать, что он в этой жизни всего лишь гость. Пришел, посидел, ушел. Вот так, держа в руках уже ненужные другому ботинки.
– Я не так беден, – наконец отвечает он и собирается уже садиться в машину.
– Я поеду с тобой, – негромко, но решительно говорит она, и конь в балахоне тычется ей в спину мордой, – Поедем?
– Ты можешь ехать, куда тебе угодно, – безразлично отвечает он уже из кабины, – Пока.
Он едет по лесной дороге быстрее обычного, словно Монтсеррат догоняет его на своем одетом в балахон страшном коне. Он знает, что она для него опасна: он уже любит ее. Любит так, будто давно уже ее знает. Она не похожа на Гейра Сивертсена, да, пожалуй, и на свою мать. Она в своем роде, особенная. Каждый ведь волен лепить себя в соответстии со своим идеалом, даже если материал родительский. Каждый наследует в конечном счете себе.
Монтсеррат, смотрящая в прошлое.
Дома он перво-наперво вымылся, долго стоял под душем, словно желая смыть с себя застигнувшее его врасплох чувство. Причесал, что он делал редко, торчащие над ушами волосы, заварил крепкий кофе. Был конец мая, с мягким серебристым светом белых ночей, белыми облаками цветущей спиреи и черемухи, с прохладной невинностью ландышей. Хельге любит цветы, их терпеливое стремление к свету, их невинное сожительство с бабочками. Эти навсегда привязанные к земле пленники, тоскующие о своем родстве со звездами! Впрочем, сам он цветы не разводит, ему достаточно диких. Поставив на край чугунной печки кофейник с горячим еще кофе, он думает сходить к ручью, разделяющему поле и лес: там ландыши покрывают сплошь каменистый пригорок. Это совсем рядом, кофе не успеет остыть.
С чем можно сравнить эти светлые майские ночи?
В полях так тихо и свежо, три старых черемуховых дерева стоят в полном цвету, как три готовые на бал сестры, и тонкий, горьковатый, волнующий запах таится в прохладном воздухе как весть о не познаваемой до конца красоте. Дрозды на верхушках высоких елей вплетают в безветренность вечера свои неспешные, об одном и том же, рассказы: о том, что короткая ночь завершится рассветом, а потом будет день, а потом придет вечер… Можно жить в этих местах тысячу лет и ни разу не пресытиться майскими таинствами, переживая это вновь и вновь: свою совершенную среди совершенства природы единственность.
Подождав, пока дорогу перебежит косуля, Хельге идет напрямик через поле, мимо свободных от пашни каменных островков с березами и можжевельником, мимо кряжистой столетней липы и груды замшелых, покрытых птичьим пометом валунов, идет прямо к ручью. Его натренированный одиночеством слух уже улавливает шепот и мелодичное журчанье сбегающей с пригорка воды. Эта лесная, собирающаяся из-под хвои и мха вода никогда не стоит на месте, прокладывая среди корней деревьев свое постоянное русло. Даже зимой, под толстым слоем льда, ручей продолжает жить своей жизнью, вплетая в снежную тишину серебристое журчанье и бульканье. Не будь природа великим художником, разве она была бы способна на такое?
Теперь, в мае, ручей довольно глубок, через него, пожалуй, не перепрыгнешь. Крепко взявшись рукой за толстую ветку дуба, Хельге ставит ногу на плоский, посреди ручья, камень, пробует опору, упирается другой ногой в торчащий над водой корень сосны, теперь он на пригорке. Натыкаясь на камни, вода образует небольшие водопады, снося вниз песок и гальку, собирается среди перегородивших ручей стволов в запруды. Сюда приходят пить косули и лоси, зимой Хельге видел возле ручья следы рыси.
На пригорке, как он и думал, полно ландышей. Лечь на теплый еще мох, лицом в эти листья, и постепенно отключить мысли… только чувствовать, только переживать этот творящий, ткущий, деятельный покой. Хельге прислушивается: по дороге мимо дома проехала машина, остановилась. Он никогда не запирает дверь, красть у него нечего. Ближайший сосед, он же домовладелец, живет в пятистах метрах и за двенадцать лет был у Хельге дважды, когда ломался водяной насос. Он снова прислушивается, встает, поднимается на самую макушку пригорка, откуда видны поле и дорога. Мимо старой липы и груды валунов в его сторону идет Монтсеррат. Как она узнала, что он здесь?
Она идет неспеша, будто просто прогуливается, останавливается и смотрит по сторонам, держа руки в карманах куртки, запрокидывает голову к тонкому, едва заметному месяцу, смеется. Наверняка она знает, чего хочет. Она идет прямо к тому месту, где Хельге переправился через ручей, подходит, останавливается. Самой ей, пожалуй, не перебраться на пригорок, разве что перелезть через коряги вброд. Усмехнувшись, Хельге спускается с пригорка, останавливается возле водоворота.
– Ну?
Она стоит всего в нескольких метрах от него, и она достаточно самоуверенна, чтобы никак не объяснять свой приход.
– Хочешь сюда?
Она хватается за ветку дуба, дотягивается ногой до камня, и Хельге вытаскивает ее за руку на пригорок. Он крепко стоит на этих камнях, тяжелый, широкоплечий, и другим вовсе незачем знать о его безднах и обвалах. Она может на него, пожалуй, опереться.
– Ты всегда тут один?
Он молча пожимает плечами, на это он никогда не обращал внимания. Его не интересует, куда ходят другие. Кстати, для других существуют дороги.
Монтсеррат это знает, она ведь сама… бездорожье. Бездорожье лесных, горных тропинок: в лесу не всякому видна красота, хотя охотников туда ходит много.
– Я не охотник, – говорит он и отходит чуть в сторону, садится на замшелый камень. Он мог бы, пожалуй, рассказать ей о перепуганных насмерть косулях, поднятых среди ночи лаем собак и хлопаньем выстрелов, об этих прижимающихся к стенам его дома обреченных. Рано или поздно их, конечно, пристрелят, но дать животному истинное о человеке представление, это куда важнее: животное сотворено ведь из человека. И все, что только есть в животном мире, вернется в конце концов к человеку.
Сев рядом с ним на камень, Монтсеррат проводит пальцами по его торчащим над воротом свитера светлым волосам, дерзко забирается за шиворот, гладит шею, подбородок, высокие скулы, брови. И Хельге все это молча выносит, и другим вовсе не нужно знать, куда он в это время уносится… проваливается… Знает ли об этом Монтсеррат?
Она знает, пожалуй, все закоулки любовных храмов, где она сама алчная и требовательная жрица. И это благодаря ей, ее выделанным из золота наследственности формам, любовь становится жертвоприношением: видишь, как Я в этом огне сгораю?
Оттолкнув ее от себя, Хельге порывисто дышит, желая ей что-то сказать… но ничего теперь уже не скажешь. Он знает, что это испытание, к которому никогда не бываешь готов. Вот так, застигнутый врасплох, ты и узнаешь, чего ты сам стоишь. Ты стоишь, может быть, только этой телесной игры, оставляющей после себя одну лишь пустоту.
Распустив тугой узел ее рыжих волос, он вдыхает их запах, находит ее губы. Он ляжет с ней на этот мох, ощущая под одеждой ее золотые формы, ощущая в себе вопль и крик до неба взметнувшейся свободы.
Свободы, овладевающей тобой.
Черный дрозд поет до самой темноты и внезапно пропадает, напоследок торопливо пообещав, что до рассвета осталось всего три часа. Темнеющая среди поля громада старой липы, ползучая пелена тумана… Держа Монтсеррат за руку, Хельге идет, не считаясь с ее шагом, и ей приходится почти бежать по засеянному озимыми полю. Куда он так спешит? Там, возле дома, сонно дожидается ее «Феррари», она успеет вернуться домой до рассвета, хотя никому до этого нет дела. Она вольна, в свои тридцать шесть, возвращаться домой или не возвращаться. И то, чем она только что владела, значит в ее жизни гораздо больше привычек и правил: чувственность и страсть другого человека. Из этого взрывоопасного горючего построены вершины и пики ее молодости, и каждая из этих высот ею взята. Она взяла, быть может, и Хельге, кто знает… Он крепко держит ее за руку, и ночь еще впереди.
В доме темно, ни лампочки, ни свечи. Можно споткнуться о лежащий у входа камень, натолкнуться на край массивного дубового стола, войти по ошибке в ванную. Но вот наконец и свеча, толстая, оплывшая, в закопченном чугунном подсвечнике. Хельге ставит свечу на подоконник перед узким, как щель, окном, раздевается. Она, если хочет, может спать здесь, на этих нарах. На этих прочно вбитых в стену досках. По ним можно проехать на тракторе, и ничего. Под нарами теснятся старые чемоданы, и что в них, Хельге даже и не помнит. Лежа на толстом поролоне под стеганым одеялом, можно не беспокоиться о качестве снов, в том числе и страшных: здесь все как наяву. И чтобы сны никуда потом не пропадали, Хельге кладет под подушку мешочек с кусочками отшлифованной яшмы: эти пестрые, как бабушкин ситец, камешки. Ему часто снится дорога: он лежит на самой середине и на него вот-вот наедет грузовик, и нет никаких сил подняться, уползти прочь, остается только кричать: «А-а-а-а-а-а-а-а!!!»
– И это помогает? – запрыгнув на высокие нары, интересуется Монтсеррат.
Хельге кивает. Он кричит не потому, что так уж ему страшно, а только из-за уверенности в том, что его слово очень много значит. Поэтому он, кстати, и немногословен.
Какие сны снятся Монтсеррат?
Она стесняется раздеваться при мужчинах, и далеко не все, кто когда-либо был с ней, видели ее нагой. Обычно она носит болтающиеся на бедрах джинсы и просторную охотничью куртку, становясь почти незаметной в этой одежде. Но Хельге разглядел бы формы ее тела под любым балахоном. Золотые, солнечные формы! Сколько стараний потребовалось природе, чтобы дать этим формам ожить! Ствол выросшей среди камней сосны, неописуемо изящный, неповторимо красноречивый в своей гибкой округлости, в дерзости своей необычности. Красота, которой многие желали бы поклоняться. Красота, ставшая вровень с небом и солнцем. Красота недоступных тебе вершин. Но разве эта ее недоступность не есть ее чуждость тебе?
Еще работая на фабрике стекла, Хельге научился видеть опасность своего со своим же восторгом соития: его суверенное само подвергалось неслыханно жесткому испытанию, да, рисковало быть стертым и растоптанным натиском восхищения. В прозрачной толще стекла он находил ведь только то, что было в нем самом, свои переливы и краски, но как-то неловко было соглашаться с тем, что ты сам и есть конечный предмет выражения искусства. Тогда Хельге понял, как далеко отстоят употребляемые людьми понятия от промысла истины. Он понял, что истина вовсе и не нуждается в абстрактных понятиях: она переживается.
Он мог бы смотреть на Монтсеррат сколько угодно, изучать ее, осознавать. При свете свечи ее нагота напоминает сверкающее в ночи озеро: броситься с головой, захлебнуться, утонуть… Многие наверняка тонули, те, у кого ни паруса, ни ветра. Он проводит ладонью по ее впалому животу, огибает, едва касаясь, маленькие твердые груди, трогает пальцами раковины ключиц и выступающие на прямых плечах бугорки, перебирает закрывающие шею волосы, чувствуя ее учащенный пульс… Никто так пристрастно ее не изучал. Другие, может, вовсе и не желали ее знать, слепцы, довольствуясь привычной тьмой чувства. Обняв его шею рукой, она притягивает к себе его голову и, упираясь затылком в подушку, ловит его губы, шепчет ему в лицо:
– Ты хочешь меня узнать, и ты это можешь. Ты ищешь в хаосе любви себя, это твоя за твои усилия плата, твой выигрыш. Но ты находишь меня! Твое стремление к себе, это всего лишь иллюзия, и я разорву ее в клочья! Я дам тебе свободу от твоего эгоизма!
Он готов играть с ней в эту игру, и он знает, что это охота, смахивающая на самоубийство. Он никогда не искал секс ради секса, он мог годами обходиться без женщин, даже если те приходили к нему сами. Но он желает теперь Монтсеррат. Желает соответствия ее золотых округлых линий своему знанию о себе: он сам есть мерило этих округлостей. Погружаясь в ее горячее лоно, он кричит о своем приходе… Но туда ли он приходит?
Он проснулся на рассвете, когда запел дрозд. Сначала неуверенно, путаясь и запинаясь, потом вдруг в полную силу, рьяно. «Солнце», – думает Хельге и поворачивается к спящей на самом краю постели Монтсеррат. Она спит почти не дыша, и ему кажется, что она умерла, вот так, никого не предупредив. Наклонившись над ней, он пристально, напряженно на нее смотрит, он хочет узнать о ней все, хочет запомнить эти формы. Лицо ее, пожалуй, слишком бледно, и кожа на висках так тонка, что виден пульс, и эти тонкие запястья, эти неповторимо изящные ушные раковины… Внезапно она открывает глаза, смотрит на него в упор.
– Я была далеко, – хрипловатым, странно постаревшим голосом говорит она, – И я видела тебя.
Хельге кивает, другим он тоже снится. Сам он записывает в толстую тетрадь увиденные им накануне сны, по горячим следам, иногда ночью в постели, записывает во всех деталях, запоминая с каждым разом все больше и больше. Во сне он многому учится, да, оттуда к нему притекает что-то важное, он думает, что это ангел пробирается к нему сквозь неразбериху жизни: ангел учит его бодрствовать. Если бы кто-то занес над ним, спящим с закрытыми глазами, меч, он бы немедленно вскочил. Он бодрствует, конечно, и днем, смотрит сквозь людские настроения, и большая часть этих картин ему неприятна: он натыкается повсюду на один и тот же человеческий мусор. Все хотят признания, у каждого наготове авторитет. Никто не выносит к тому же тишины.
– Я видела тебя, – продолжает, лежа на спине, Монтсеррат, – на шоссе, почти голого, с выгоревшими на солнце нестриженными волосами и усами…
– Я ездил на велосипеде в Африку, – нисколько не удивившись, поясняет он, – двадцать пять лет назад, в трусах и кроссовках, и я привык к палящему солнцу.
Она поворачивается к нему, долго на него смотрит.
– Ты видел там красивых женщин?
Он, подумав, кивает. Во Франции и в Испании он не видел ни одной, там их попросту нет, но среди берберов, пожалуй, встречал. Высокие, легкие, гибкие тела, тонкие лица, певучий язык. Светловолосый и рослый, он был среди них экзотикой, его часто принимали за сумасшедшего хиппи и бесплатно поэтому кормили, и никто за всю дорогу ничего у него не украл. Он разговаривал с берберами жестами, не считая нужным употреблять свой школьный английский, и молодые берберки давали ему знать, тоже, разумеется, жестами, что они в данный момент не заняты. Но он не лег ни с одной из них, хотя их пропитанные солнцем черные тела его восхищали. Что для него даже самое соблазнительное тело, если к нему не прилагается никакой понятливости? Спящая черная Африка, тянущая во сне руку к куску хлеба, это ведь дьявольски скучно. Скучно.
– Зачем ты туда ездил?
Хельге молчит. Он проехал через десять стран, он видел Европу. Он не желал себе попутчиков, он должен был все увидеть один, великие столицы и горные перевалы, должен был пережить в одиночестве свою к этой части света принадлежность. Он ехал достаточно долго, чтобы не обращать уже внимание на расстояния, чтобы забыть время, чтобы преодолеть в самом себе всякое «от и до».
– Дух странствий, – перебивает его мысли Монтсеррат, – твои желания, твое честолюбие. Наверняка тобой интересовались журналисты, и ты мог бы, к примеру, рекламировать модель велосипеда…
– Я купил его в комиссионном магазине, старый рабочий велосипед, а журналисты и в самом деле встречали меня то тут, то там…
Он снова замолкает. Разве станет он говорить ей или кому-то другому, что целью его поездки была та изматывающая до бесчувственнности, гасящая мысли усталость, которая только и позволила ему пережить в Сахаре встречу с Ним… Нет, он не станет ей об этом рассказывать.
– И что они о тебе писали? – забравшись под одеялом к нему на живот, смеется она, – Что ты сумасшедший?
– Многие и теперь так считают, – усмехается он в ответ, – Но какое мне до этого дело? Я ведь за других не отвечаю.
– Нет, ты свободен от других в хаосе жизни, зачем тебе с кем-то связываться. Но ты повсюду находишь… меня! Ты ведь ищешь только меня!
Он вопросительно на нее смотрит.
– Даже если тебе и в самом деле удалось бы чего-то в этой жизни достичь… – закрывая на миг его лицо водопадом рыжих волос, смеется она, – … чего-то, что оправдывало бы твою от других отчужденность, я все равно была бы тут, в твоих тайных устремлениях!
Рывком перевернув ее на спину, он придавливает ее своим телом, не считаясь с ее хрупким сложением, он мог бы, пожалуй, ее изнасиловать. Но он тут же отпускает ее, и она настороженно за ним наблюдает, вожделея к его широкой спине и мускулистым ногам.
– Я не хочу иметь от тебя детей, – набрасывая на нее край одеяла, говорит он, – Как, впрочем, и от всех остальных… Расскажи лучше какую-нибудь историю.
Ее тонкое лицо становится серьезным, озабоченным, печальным. На острове, где она родилась, живут одичавшие кошки, они знают много историй. В лунную майскую ночь их тени крадутся по серо-зеленому шиферу, доставая хвостом до конька крыши, спускаются по водосточным трубам на замшелые бетонные плиты, тают в кустах жасмина. Спроси, если хочешь, у кошек, как им эта жизнь. На острове хватает зимой крыс, но самая лучшая их добыча – летучие мыши. Эти подвешенные к чердачным балкам комки страха и ужаса. Они по-своему красивы, в своем невесомом теле, в беззвучности своего полета.
– Отцу не нравились эти летуны, он считал их отравителями, да, растлителями человеческой воли. Они мешали ему работать, и многое поэтому так и осталось незаконченным. К примеру, мой портрет…
Сев спиной к его спине, она берет его за руку, взвешивает его ладонь в своей ладони, выпускает на одеяло.
– Мой портрет из прошлой жизни, я и тогда была красива… – она резко оборачивается к нему, – Ты помнишь меня?
Он изумленно на нее смотрит, отодвигается на край постели, словно желая увидеть ее в полный рост, смотрит опять. Он не прочь принять все это всерьез, он ведь и сам многое помнит, но рассказывать кому-то об этом… нет!
– Это неважно, – нехотя отвечает он, – расскажи лучше про летучих мышей.
Он видит, что она злится, ее тонкие пальцы комкают край одеяла. Таких длинных, поразительно ровных пальцев он не встречал ни у кого, в хрупкости ее кисти угадывается терпеливая и тщательная работа над многими поколениями: эти руки сделаны из самого деликатного материала. Он смотрит на свои босые ступни, они тоже очень красивы… и ничего, что Монтсеррат злится. Тугие соски ее маленьких грудей касаются его спины, рыжие волосы щекочут его шею, она стоит на коленях на скомканном одеяле, и ее руки смыкаются на его животе в замок.
– Ты ведь и раньше переживал это со мной, – обхватывая его сзади ногами, шепчет она, – не было такого времени, когда ты был бы со мною разлучен, я следую за тобой из одной жизни в другую! Даже когда ты покидал меня, ты продолжал меня любить. Ты только думал, что ненавидишь меня, но только и делал, что искал мои следы. Твое стремление к истине, как ты это понимаешь, давно бы увяло и поблекло, не будь в нем отсвета моей красоты. Моей! Моя красота вдувает силу в кисть художника, и нет в искусстве такой линии, которую ты не нашел бы в моем теле. Скажи, ты помнишь меня?
– Ты – Амундсдоттер.