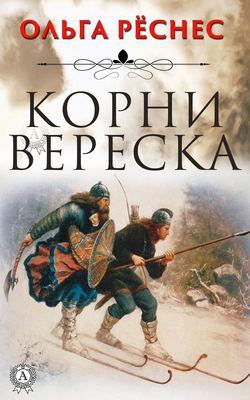Читать книгу Корни вереска - Ольга Рёснес - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеОтвет от Хиллари пришел немедленно, с промежутком всего в десять дней. И это было письмо для… Монтсеррат! Письмо, как обычно, с картинками: цветущие опунции, ленивые, пушистые кошки… Монтсеррат читает его, став под яблоню, словно старое кряжистое дерево может как-то обезвредить намерения американки. А намерения у нее есть! Прежде всего, подружиться с Монтсеррат.
Ничего более дикого и вызывающего нельзя и придумать: предлагать дружбу и одновременно вытаскивать из-под тебя матрас! Хиллари почти на двадцать лет старше ее, и с этой своей высоты она благословляет, ни больше и ни меньше, сожительство Монтсеррат и Хельге. Кто бы мог подумать такое!
Стоя под яблоней, под прикрытием опустившихся до земли ветвей, Монтсеррат комкает проклятое, вместе с кактусами и кошками, письмо, распрямляет, снова читает… Эта американка вряд ли сумасшедшая, как могло бы в первый момент показаться, тут скорее какой-то дьявольский расчет: «Только вместе, – пишет Хиллари, – мы сможем удержать то, чего каждой из нас не дано. Ты, лежа с ним в постели, уносишь его прочь от земли. Я на расстоянии схватываю его мысли цементом моих проповедей… Мы союзники и товарищи по оружию».
Старая песнь о власти: пройтись бороздой по самой плодородной, какая есть в человеке, почве, засеваемой любовью! Властвовать, соблазняя, увлекая, унося прочь, это и есть великая в жизни Монтсеррат задача. И пусть соблазненный ею, соблазняясь еще больше, спит, пусть верит. И эта вера пусть остается единственным над соблазненным небом, единственным, если надо, солнцем. И нет, пожалуй, в мире таких вершин, которые бы эта вера не покорила. Покоренные, захваченные, завоеванные, эти вершины мира пестрят радужным опереньем на могучих крыльях чувства, и нет у тебя больше нужды стремиться к себе. В этой песне о власти есть и свой тайный смысл, и только изредка он становится видимым: соблазняя тебя во имя любви, эта власть ничего общего с любовью не имеет. Как раз любви-то она меньше всего и желает, поскольку любовь возвращает тебе тебя. Власть, опьяняющая, восхищающая, крадущая у тебя твое золотое руно. Но есть для этой власти одна опасность: что ты однажды перерастешь ее. Однажды ты созреешь и оставишь свои детские игры в любовь, красоту и добро, и твоя зрелость даст тебе совет не жечь эти сломанные игрушки, но попытаться их починить, посадить в дырявый ночной горшок герань… Но кто на это сегодня способен? Кто?
Хиллари предлагает Монтсеррат покрепче взяться за руки, да, в духе американской прожорливой солидарности: мы двое не пустим сюда третьего. О каком третьем идет речь? Впрочем, третий всегда, как правило, слоняется поблизости. Исключив, как предлагает Хиллари, этого неизвестного третьего, они вдвоем смогут, пожалуй, разорвать Хельге надвое, оттянув каждая в свою сторону добычу: холодный анализирующий ум, взрывчатые пламенные чувства. Так, чтобы между желаниями Хельге и его расчетливой волей образовалась в конце концов дыра и пропасть, и чтобы никакой мост не был через нее перекинут. Но самое главное, чтобы все это оставалось для него в тайне, чтобы Хельге не разглядел и не распознал подвох.
Захватывающая перспектива. Это покруче, чем шведский, втроем, брак. Но сожительствовать с этой американкой? С этой по-прежнему вожделеющей к нему старухой? Даже на расстоянии в несколько тысяч километров Монтсеррат ощущает особую, ни с чем не сравнимую вонь. Вонь разлагающихся трупов. Вонь, от которой балдеют грифы.
Сев под яблоней на траву, Монтсеррат кладет на колени блокнот, рисует. Отец часто хвалил ее рисунки, всегда такие странные, будто кто-то водит ее рукой во сне. Она ведь рисует то, что видит. И если другие родились слепцами, это не ее вина. Она видит много интересного, видит всё это в себе, и ей доставляет удовольствие описывать это еще и словами, в необычных и дерзких выражениях, не считаясь ни с каким вкусом. С этими своими рассказами она могла бы нарваться на литературную премию или стипендию, стать членом какого-то союза… если бы не ее презрение к такого рода плебейству. Она пишет свои, как она называет их, картины, исключительно для себя.
… На каменистом склоне, неподалеку от грохочущего водопада, стоит деревянная церковь: из толстых бревен, с покатой крышей и резным крыльцом, смахивающая на крестьянскую избу. Зимой ее заметает снегом до самого верха, и никому нет дела до сырой на земляном полу мешковины и забрызганных тюленьим жиром закопченных досок, до этого единственного внутреннего убранства, не говоря уже о безмолвном, обреченном на вечную бедность хозяине избы, чужом в этих краях Белом Боге. Он зимует тут уже одиннадцатый год, но никаких особых чудес за это время не произошло, разве что поубавилось в этих местах народу. Так думает по крайней мере старый хёвдинг Амунд, и его дружинники того же мнения: не слишком велика удача, сделаться из волка лебедем. И пусть конунг могуч и хитер, хитрее, быть может, тролля, ни одной здешней, блеющей за каменной оградой овце, не говоря уже о рысях и россомахах, не соблазниться белым лебединым бессмертием, оплаченным покорностью и смирением. Можно ли заставить грохочущий водопад лететь ввысь?
У конунга есть своя за горным перевалом страна, и оттуда редко приходят вести. И пусть будет так, думает старый Амунд, пусть у вестей оторвутся крылья, сомнутся на ветру паруса. Последней из-за перевала вестью была скорбь его единственной дочери Сигню: конунг казнил ее мужа. Многие тогда готовы были схватиться за мечи, много было собрано для выкупа Сигню серебра, но на стороне конунга был Белый Бог. Тогда и стало ясно, чья власть, волков или лебедей, круче. Эти залетные ирландские лебеди! Им далеко, конечно, до настоящих птиц, этим откормленным проповедями, удушенным молитвамии и постами грамотеям. В прежние, совсем еще недавние времена за одного упитанного ирландского монаха давали пару овец, но оказалось, что монах и того не стоит, даже меч об него марать стыдно, разве что забить бездельника пинками. Так и делали. Хотя многие втайне оказывались смущены: чего, в самом деле, хотят эти полуодетые нищие? Эти презирающие богатство отшельники, ютящиеся на пустых, продуваемых ветром островках в холодном, яростно штормящем море. Эти преданныек своим таинствам упрямцы. Да и можно ли назвать их жизнь жизнью? Правда, они умеют сражаться, но волки всегда оказываются сильнее. Чего же они, монахи, в самом деле, хотят?
В дружине Амунда никогда не было до этого раздоров, и много совместно пролитой крови ушло на это согласие. Кровь врага, кем бы он ни был, скрепляет единство мечей. Так было до последнего времени, пока не построили эту церковь, пока Белый Бог не явился сюда из-за перевала с вестью о власти.
Он, Белый, желает отнять власть у старых, темных, обжитых, прокопченных, привиредливых, сварливых, подслеповатых и мудрых духов здешних мест. Отнять навсегда, отнять вместе со славой и тем величественным покоем, в котором валькирии парят над схваткой… Зачем Белому Богу столько власти?
В этих местах испокон веков правят тролли. Пока стоят эти горы, пока грохочут под этими скалами водопады. «Пусть тролль тебя заберет,» – так тут встречают соседа. Тролль, даже тот, кто прикидывается заросшей лесом горой, немедленно оживает, стоит только его позвать: это близкий, если угодно, родственник, да, член семьи. Он же дух пригорка или долины, выбирающий себе самое красивое дерево, и ты не забудь поставить возле той березы глиняную миску с овсяной кашей. Беременные женщины носят здесь амулеты Фрейи, а молоточки Тора льют здесь из самого чистого серебра. Но сколько бы не водилось здесь духов, их сила и власть для тебя бесполезны, если ты не владеешь собой сам.
Вот ведь чего домогается этот новый Бог, этот белый, в ирландских перьях, лебедь: сделать тебя ничем. И ты, пока не поздно, схвати топор и рубани что есть силы поселившегося в темной церквушке истукана: это ведь просто дерево! Бревно, обструганное неумелой рукой монаха. Провонявшая ворванью молитва. Сырость гнилой мешковины. Заплесневелый, затхлый, проточенный червями страх.
Прогони, прогони прочь Белого Бога!
С вершины склона, на котором стоит бревенчатая церковь-изба, видна обширная горная страна, с ледниками и лесистыми перевалами, и где-то совсем у горизонта, куда ветер сгоняет снежные облака, открывается в тумане свинцовая полоса фьорда. Многие из дружины Амунда ходили под парусом на запад, в Исландию и еще дальше, и сам Амунд добрался до виноградной страны, правда, потеряв там двух старших братьев и отцовский корабль. Море не делает различий между богатым и бедным, и если что-то берет насовсем, то тут же дает другое, дает и отбирает… Амунд привез из того давнишнего плаванья темнокожего раба-костоеда, и это была хорошая добыча: дикарь залечивал любые раны. И хотя ел он только смешанный с кровью костный мозг и от него разило так, что даже умирающая старуха не легла бы с ним на солому, Амунд держал его постоянно при себе, даже на тинге, куда рабам не было доступа, грозя всякому, кто его тронет. Мало кто сомневался в том, что этот черноволосый выродок владеет наихудшим, какое только могут допустить местные духи и тролли, колдовством. И если бы не страх этого уродца перед лошадьми, его давно бы уже, невзирая на угрозы Амунда, проткнули копьем. Меч об него никто марать бы не стал. И сами лошади, которых он так боялся, наверняка затоптали бы его насмерть, будь у них на то свобода.
Амунд собрал людей, как обычно, ко дню летнего равноденствия, и многие пришли издалека, пешком и на лошадях, с женами и дочерьми на выданье, в лучшей одежде и с оружием. Всем хотелось узнать наконец, каково мнение соседа о новом конунге. Много дворов этот конунг успел уже пожечь, на западе и на севере, где бонды были особенно упрямы и где Один и Тор не желали уступать место Белому Богу. Кроме того, конунг строит повсюду деревянные церкви и гонит из лесов засидевшихся там троллей, при этом советуясь с ирландскими бестолочами, для которых Белый Бог и ты сам – разные вещи. Ну кто, будучи в здравом уме, поверит, что с Богом у тебя нет никакого родства? Что никогда тебе с ним, как с Фрейром или Тором, не сойтись? Даже подплывающие к берегу льды, и те говорят тебе порой правдивые вещи, если ты не слишком пьян. Нет, этот новый конунг наломает дров. Хуже, если монахи сделают его святым, то есть неподсудным никакому тингу, как это было уже с Олавом, чья святость шла в сравнение разве что с его жадностью и мужской слабостью. Белый Бог, видно, не понимает, что, раз уж он сюда явился, лучше сидеть ему взаперти в этой деревянной церкви, не мешая духам и троллям справляться как по хозяйству, так и на войне.
Дружинники Амунда, засидевшись дома с женами, рабами и овцами и пробавляясь одной только охотой, были теперь злы и не жалели денег на пиво, которым торговал под навесом из телячьих кож рослый, молчаливый Йостайн по прозвищу Копьё. И пока женщины жарили над костром в земляной яме баранину, воздух пропитывался подогретым на солнце нетерпением схватиться прямо тут, на тинге, с людьми конунга, и некоторые, без всяких на то причин ссорились между собой и затевали возле костров драку.
На это Амунд ответил строго и по чести, держа руку на позолоченных ножнах меча, и даже молодые девицы, в первый раз оказавшиеся на такой большой сходке, поняли без отцовских пояснений, что старый хёвдинг ни в чем не уступает самому конунгу. Он сказал:
– Раньше мы ходили морем в Ирландию, навещать ранее обезглавленных монахов и рубить головы новым, но времена повернули в дурную сторону, теперь монахи жалуют к нам сами, таща за собой через перевалы своих неподсудных святых. Но ведь стоят еще в надежных скальных бухтах наши многовесельные корабли! Наши вырубленные из дерева девы все еще всматриваются в морской туман!
Йостайн Копьё налил хёвдингу полную, до самых драконьих голов, серебряную чашу, и чаша пошла по кругу, не миновав и женщин, которым ничуть не меньше, чем мужчинам, хотелось теперь же и отстоять Фрейра и Фрею, хотя обижать Белого Бога никто особенно не рвался.
Несколько зим назад Амунд водил своих людей к конунгу, хотя тот его не звал. Они сели на корабль, взяв с собою только лошадей и оружие, и ветер гнал их много дней без остановки до самого Осло-фьорда, там они спрятали корабль среди шхер и оседлали лошадей. Их встреча с конунгом была короткой, но каждый успел дать ему затрещину, за этим они и ехали в такую даль. Правда, некоторым пришлось там же и остаться, в собственной крови и проклятиях, но большая часть вернулась благополучно домой. И эти люди теперь здесь. Они ждут, что скажет Амунд.
Он совсем уже стар, но ходит прямо, крепко ступая по камням, рука уверенно держит меч. Длинная белая борода заплетена в две косы, глаза зеленовато-серые, отсвечивающие голубизной, совсем как у Ильд, старой, сопровождающей его повсюду волчицы. В свои лучшие годы, оставшиеся по другую сторону неприветливого, вечно штормящего моря, Амунд не знал ни нужды, ни страха и презирал далекие расстояния. Теперь же удача следует за ним только по этому скалистому берегу, словно ее посадила на цепь придирчивая судьба: теперь Амунду приходится только считать, одну за другой, потери, нанизывая их на копья гнева и мести. Никто, конечно, не скажет, что он беден, но мало кто знает, как он был когда-то богат. Его сыновья ушли, один за другим, на вечный праздник битвы, дочь стала пленницей. На таком же, как теперь, тинге он сосватал ее девять зим назад за соседа-купца, и было от этого много выгоды всем. Купец торговал с исландцами и сам был в родстве со святым, как его называли, Олавом, хотя об этом редко с кем заговаривал, больше доверяя кораблю, чем людям. Дочь Амунда, красавица Сигню, предпочитавшая кухне и рукоделию дикую мужскую охоту в горах, пошла за купца, не сказав ни слова, хотя могла бы наверное сказать о своей тоске по Гюннульфу, который тоже не прочь был ее в жены взять. Амунд знал Гюннульфа давно, с тех пор, как тот ушел в свое первое в Исландию плавание, ценя не только верность его меча, Последнего Вздоха, но также красоту придуманных им вис и драп. Одну из драп Гюннульф сочинил для самого Амунда, когда тот вернулся из удачного южного похода, и тогда же получил от Амунда толстое обручье из золота. В первый раз увидев Сигню восьмилетней девочкой, Гюннульф решил по-настоящему разбогатеть и посвататься, и он много после этого ездил и видел, и он вернулся, когда Сигню минуло восемнадцать. Он не ошибся: он желал именно ее, и цена сватовства была для него безразлична, да ему и было что дать. И он вдобавок сочинил такую красивую вису, какую даже исландец не всякий придумает, и сказал ее вслух перед Сигню, и отдал ей исписанный рунами пергамент. Она спрятала пергамент, и никто потом ничего не нашел, но с этой поры за ней потянулся ведьмовский хвост: Гюннульф приворожил ее своей любовной песней. Приворожил так, что она искала теперь только его, только о нем тосковала, только его одного и помнила.
Амунд думал было объявить Гюннульфа вне закона за эту любовную вису, но тот откупился: отдал хёвдингу свой корабль. И теперь, с одним только оружием, он ест, пьет и спит в дружине, желая в свои сорок три года только одного: вкусить от мудрости Одина. Бросить свой глаз в глубину, на самое дно моря, где лежат должно быть ключи, где светится, обжигая мысли, выкованная из золота истина. И эта золотая истина не даст воину выпустить из руки меч.
В день свадьбы Сигню Гюннульф получил прозвище Скальд. Он пришел на пир с арфой, и хотя пил вместе с дружиной, не впал, как часто с ним бывало, в ярость и буйство, а только смотрел, не отрываясь, на Сигню, словно собираясь ее украсть. И она изредка улыбалась ему, и по ее бледным щекам катились слезы. Она была красивее, чем когда-либо: яблоневый цвет, синева моря, золото песка. В этот день над нею долго старалось солнце: всё в ней светилось и сияло, обещало и звало. Гюннульф не видел ее расшитых серебром одежд, он видел ее нагой. Такой, какою ей следовало быть на безлюдном берегу по другую сторону фьорда, в его доме, в его постели. И она роняла на расшитый серебром шелк слезы, думая о том же, что и он. И когда один за другим дружинники начали сползать под стол, Гюннульф поднялся и запел. Он пел о том, как удачлив купец, как он богат и разумен. Купец попросил Гюннульфа спеть это еще раз, и получилось еще лучше, и многим хотелось услышать подобное о себе. Амунд первый наградил его, и купец тоже не пожадничал. И когда жениха с невестой увели в спальню, украшенную коврами и дорогими тканями, Гюннульф пошел один к водопаду и разбил о камень арфу.
С тех пор его зовут Гюннульф Скальд.
Он стоит возле водопада, и грохот воды едва заглушает его рвущийся в ночь крик: «Сигню!.. Сигню!..» Он зовет ее сюда, в свое одиночество, в свое отчаяние, и только гул бьющихся о скалы камней становится ему ответом. Он подозревает, что не выдержит, уступит нанесенной ему судьбой обиде, но мудрость не живет в соседстве с обидой, мудрость обещает лишь холод, холод и свет, холод падающей с вершины воды, свет звезд. Теперь ему только слагать висы и петь, и смывать с меча кровь. Он стоит возле бурлящей реки в лучшей своей, годящейся для свадебного пира одежде, в белой льняной рубахе и темно-зеленом, отороченном лисьим мехом плаще, и много золота у него на руках и на шее, и между сосцами на мускулистой груди плавится в горячем биении пульса серебряный молот Тора. Не снимая с себя меча, Гюннульф ступает в бурлящие поверх его колен волны, и в спину ему ударяет мощный ток воды… Он стоял так должно быть долго, не чувствуя холода, пока ему не стало казаться, что по тропинке среди камней к нему спускается Сигню. Должно быть, она спустилась прямо с повисшей над вершиной горы звезды, иначе как ей было сюда попасть. Сигню! Она в белой свадебной рубашке и босиком, и это кажется Гюннульфу хорошим знаком, и он, стоя среди валунов в бурлящей воде, смеется. Этот адский шум водопада, эти сверкающие в свете звезд брызги! Он теперь им сродни, Гюннульф Скальд, он поет вместе с ними великую любовную песнь севера. Сотворенный в этой ночи из холода и света, он не может больше желать и страдать как те, что препираются друг с другом из-за Фрейра или Белого Бога, он несёт в себе всех богов, он есть их единство и их неравенство. Здесь, в этих водоворотах, в пене и грохоте, врастает в водопад его звездная судьба.
Опоясанный мечом, в потоках воды, он выходит на каменную площадку, и грудь его вздымается под молотом Тора, как накануне битвы. Неспеша, пропитываясь знакомым холодом, он вынимает из ножен меч. Он видит босые ступни, тугие соски под шелком свадебной рубашки, впадину между ног, куда норовит пробраться ветер, и звездный свет становится вплетенными в это тело нитями.
Сигню.
Амулет Фрейи обещает дать ей потомство, и луна сама явилась в свадебную спальню, ощупав бледными пальцами край мягкой, свесившейся с постели овчины и жилистую спину молодого купца. Луна ждет продолжения этой игры, затеянной телом с оживающей ночью птицей, с этой бесшумно улетающей в сновидения совой, уносящей неизвестно куда свою добычу. Как взять то, что улетает в мечтах прочь?
Купцу не в новинку брать красивых женщин, не зря он бывал в Дублине. Он слышал кое-что о нравах своего святого родственника и мог бы определенно подзанять у того властолюбия и скотства, когда бы у него самого была к тому охота. Но нет, он не готовится в святые, и ни одной ирландской рабыне не пришлось терпеть от него насилия. Он думал о Сигню много месяцев, видел о ней сны, и в каждом таком сне она куда-то улетала, зовя тоскующим криком весеннюю синеву, и он не догонял ее, он только смотрел… смотрел, как ее белизна сливается с пухом облаков…
И вот теперь она его жена, и на шее у нее амулет Фрейи. Такую белую кожу не часто увидишь даже на севере, ее светлые косы расплетены, тугие розовые соски ждут поцелуев. Окажись у купца еще три пары глаз, он бы съел ими эту гибкую шею и плавные дуги бедер, и облитые лунным светом колени… и даже двух его глаз хватает на то, чтобы обвести золотой чертой заметные признаки ее нетерпения… она желает!.. ждет!.. Сигню, его жена. Луна целует тайком золотой амулет Фрейи, обещая зачатие и сладость любовной муки, густые волнистые волосы пахнут скошенной травой… Но кто-то, должно быть, дух этой светлой летней ночи, отрывает молодого купца от золотой брачной постели, отнимает у его тела тяжесть и силу. В этой белой ночи, в этой северной полночи любовь становится невесомой, становится светом и песней скальда, и ее белые крылья обнимают заждавшуюся на горизонте звезду… Только дух, должно быть, и может напитать этой сладостью спрятавшуюся под ребрами бездну: никогда раньше купец не получал так много, никогда не был так богат! На миг, сдается ему, сам Белый Бог дохнул на него своей радостью, окрестил его в этой светлой ночи своим звездным перстом. Чудо! Чудо!
Растерянно гладя его по спине, по вьющимся рыжеватым волосам, Сигню теребит другой рукой амулет Фрейи, и кажется ей, что возле постели стоит с мечом в руке Гюннульф Скальд, что льется на дорогой ковер и мягкие овчины кровь ее жениха. Внезапно, в ярости, она кусает его плечо, но он, повернувшись к ней, только улыбается. Он хочет, чтобы и она теперь, в этот сладостный полуночный миг, засветилась, как и он сам, изнутри, став в невесомости вечным, как далекий шум моря, обещанием: жить! Она должна жить в этой сияющей белизне, обращенной своей невинностью к расцветающему под самым сердцем цветку… он ведь знает теперь, что под сердцем у него Белый Бог… Он знает! Знает!
Поднявшись с постели, Сигню идет в темноту, и некому ее видеть в этой тяжело храпящей перед похмельем ночи. Она идет мимо сложенной из камней овчарни и мимо конюшни, и ее гнедая кобыла ржет за бревенчатой стеной, и только луна оказывается у нее в попутчиках. Она идет к водопаду, к бурлящей среди камней воде, где только и есть теперь холод, равный по силе ее жару. Этот жар не от брачной постели, хотя и плавится в нем золотой амулет. В этом колдовском жаре повинен один только Гюннульф Скальд, и нет никакой другой силы, кроме силы его любви, которой дано этот жар остудить. Она останавливается, босая, в легкой белой рубашке, в холоде его взгляда.
Им нечего друг другу сказать, в грохоте водопада, и светлая ночь так коротка, надо успеть дать свершиться тому, что давно уже между ними решено. Держа в руке меч, Гюннульф легко поднимает над бурлящей водой жаркое, в белизне шелка, льнущее к нему тело, и ледяные брызги впиваются жалящими поцелуями в их коснувшиеся друг друга лица. На другом берегу, среди валунов, они лягут в мягкую траву. И только его меч, Последний Вздох, увидит эту любовь. И золотая Фрейя подсмотрит тайком, как в светлом полуночном небе спускается к жару зачатия новая, вожделеющая к рождению жизнь.
Искупавшись в ручье, Сигню идет обратно, мимо заснувших возле конюшни дружинников, и сладкая ломота в ее теле празднует свершение брака: она полна, полна этой великой любовью. Дружинники пили вдоволь и теперь несутся, забыв о своих мечах, вдогонку быстроногим девам, завлекающим их в свои лунные владения. В конюшне снова ржет ее кобыла, и Сигню слышит в ее ржании тревогу, останавливается, всматривается в серебристую серость утра: возле овчарни мелькнула короткая тень. Сигню успевает заметить, что это не волк и не караулящий в ночи пес. Она узнает легкий, воровской шаг, она не спутает ни с какой другой походкой это звериное на двух ногах, скачущее любопытство. Проклятый черный раб следит за ней!
Она вернулась в спальню, с мокрыми спутанными волосами, прильнула свежестью и прохладой к заждавшемуся ее купцу, и они заснули, обняв друг друга.
Сразу после свадьбы они поплыли на корабле в Осло, где купец желал встретиться с конунгом. Он вез конунгу подарки, по мнению Сигню, чрезмерно щедрые, и всё ради того, чтобы тот облегчил исландцам торговлю. Купец и сам подумывал перебраться в Исландию, с новой своей любовью к Белому Богу: с миром и смягчающей горячие желания радостью. Он знал, что Сигню поедет с ним: он догадывался о ее смертельной тоске, ищущей себе исцеление в неодолимости больших расстояний. Может, там, вдали, она постепенно забудет Гюннульфа Скальда.
Конунг не спешит с ответом, советуясь то с ярлом Тригве, своим родичем, то с привезенным из Бремена священником. Оба обвиняют купца в неслыханной по отношению к Белому Богу дерзости: он называет Бога морем, а себя каплей, без которой море не может быть полным. Ярл Тригве к тому же не раз оказывался в тех местах, где Сигню бывала одна, и он смотрел на нее так, что ей долго потом бывало стыдно, будто между ними что-то было. Тригве далеко не молод, у него взрослые от наложницы сыновья, и жениться ему не к спеху, да и особенно незачем. Но с Сигню он готов сойтись немедленно, глядя не только на ее белейшую в мире кожу, но и немалое приданое, доставшееся купцу. Никогда еще Тригве так пылко не зажигался, никогда не был столь нетерпелив. Он вплетает в свои советы конунгу пропитанные ядом нити, он мог бы задушить ими не одного такого удачливого купца. Что касается бременского священника, то для него предприимчивость исландцев сродни таинствам их темной старой веры: ни в том, ни в другом нет ни капли покорности и смирения, столь необходимых воздвигнутой во имя Белого Бога церкви. Даже держа у себя священников, а это были нередко беглецы от закона, исландцы по-прежнему приносят жертвы старым богам, гадают на внутренностях животных, заклинают свои мечи. И эти мерзавцы хотят для себя послабления в торговых пошлинах! Купец же метит в исландские хёвдинги, этот богатый хитрец.
Глядя на щедрые подарки, конунг мрачнеет с каждым днем, и наконец случай облегчает его раздумья: на левой руке купца сверкнуло бледно-зеленым нефритом золотое обручье, полученное в подарок от датского конунга. Вот наконец-то и стало ясно: купец служит датчанам, и это накануне теперь уже близкой, во имя Белого Бога, войны. В тот же день купца обезглавили. В тот же день конунг выдал Сигню за ярла Тригве.
Она была замужем за купцом ровно три месяца, была полдня вдовой, и теперь у нее впереди ночь… не одна, но много-много ненужных ей ночей. Она уже несет в себе дитя, ярл Тригве об этом знает, и он, быть может, бросит новорожденного в лес.
Ранней весной, когда конунг собрал достаточное для похода в Данию войско и ярл Тригве оснастил вмещающий две сотни воинов «Морского дракона», Сигню благополучно родила, и ярл, глянув на новорожденного и найдя в нем сходство с собой, признал мальчика сыном. Нашлась и кормилица, тихая, смирная рабыня, родившая накануне, и молока у нее было, как у коровы. Рабыня спала, как и остальные подневольные, на сеновале в сарае, где зимой топилась печка, но Сигню выпросила у Тригве поселить ее возле кухни, в бывшей кладовой, а ребенка не отнимать. И рабыня, не зная, чего ей больше бояться, грубого насилия Тригве, не раз избивавшего ее, или благоволения Сигню, молчала, как камень.
Старый Амунд сидит на дубовом, с высокой спинкой, стуле, застланном двумя овчинами, и ноги его греет, свернувшись клубком, волчица Ильд. Он собрал людей, чтобы рассудить с ними по чести, стоит ли менять на Белого Бога старых, проверенных в битвах и празднествах, богов этой страны. Стоит ли становиться, как того хотят монахи, рабом божьим. Белый Бог убил рукой конунга молодого купца, и скоро конунг явится сюда сам и зарубит последнего хёвдинга, последнего из тех, кто чтит старый закон. Закон этот, такой же старый, как заселенные троллям горы, не перекладывает одну голову на плечи другого, но ждет ответа из каждых уст, ответа, подкрепленного, если надо, мечом. Белый Бог, каким его приволокли сюда через перевалы монахи, гонит старый закон прочь своей непонятной никому ученостью, и это, по мнению Амунда, с самого начала обман.