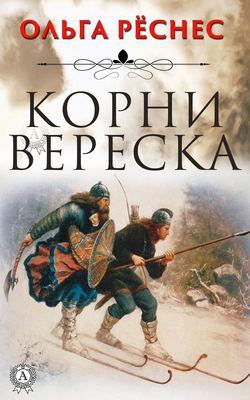Читать книгу Корни вереска - Ольга Рёснес - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеПилить и колоть дрова одному – удел тролля. Обхватить обеими руками толстое бревно, тащить его волоком по траве к круглой вращающейся пиле, пугающей соседа своим визгом и ревом, распилить на пластины, разбить железным тупоносым топором на куски… Сколько дров сжег в своей жизни Хельге! Сжег вместе с дровами свой пот и свои ругательства. Колоть дрова и при этом не ругаться, дело немыслимое. Поносить, как только можно, застрявшего в этих дровах дьявола, вместе с сопутствующей ему свитой, обещая мелким и крупным бесам если не настоящий ад, то по крайней мере приличный в печи огонь. Но сначала надо эти бревна откуда-то привезти, повалить в лесу вековые ели… Впрочем, деревья часто валит ураганный ветер: самые высокие, выросшие на камнях, с неглубоко сидящими корнями. Они лежат потом, эти повергнутые великаны, с вывороченными вместе с корнями камнями, поперек тропинок в самых глухих местах, дожидаясь пилы и трактора.
Чугунная, на высоких кривых ножках, печь стоит посреди единственной в доме комнаты, над нею сушится на веревке выстиранное белье и промокшая под дождем одежда, возле брошенной на пол кучи дров сохнут грубые рабочие ботинки. Приходя из «ада» домой, Хельге сбрасывает на пол комбинезон, заталкивает его ногой под кресло, готовит себе ужин. Что касается мытья посуды, то он мысленно зовет бабушку, хотя та ни разу еще не явилась, будучи давно уже мертвой. Приходит только Монтсеррат, но посуда так и остается немытой. Она приезжает каждый вечер верхом на лошади, и лошадь ждет, когда ей дадут морковь или яблоко. Каждый раз это породистая кобыла, каждый раз новая, и Хельге знает всех по именам. Один только черный конь в балахоне, тот ни разу здесь не был.
Печка топится в доме даже в июле, в прохладные дождливые вечера, и дровяной сарай всегда доверху набит. Монтсеррат не верит, что можно вот так, с одними только дровами, зимовать, да никто с Хельге еще и не зимовал. Может, и на этот раз он соберет в доме и под террасой десяток-другой мышей, расставит для порядка мышеловки, но в канун рождества уберет, положив вместо них на пол орехи и печенье. Среди мышей, бывает, встречается гений, исправно являющийся к завтраку прямо на стол, к куску завернутого в национальный полиэтиленовый флаг сыра, и Хельге кладет на сыр разрезанную пополам виноградину, себе и гостю. Снаружи барабанят по стеклу синицы, требуя хлеба и маргарина… Так он, скорее всего, и будет зимовать.
Монтсеррат приходит каждый день, нередко среди ночи, она почти поселилась здесь. Лошади пасутся все лето на лесном пастбище, и они вдвоем ходят туда по вечерам, напрямик через поле и дальше, по склону древнего могильного холма. Лес в этих местах дремучий, темным даже в солнечный день, с торчащими среди мха валунами и колдовскими болотцами; в нем можно безнадежно блуждать, отыскивая посыпанную гравием тропинку, можно уйти от нее далеко в сторону, напрасно пытаясь определить направление в неразберихе столетних сосен и елей. Монтсеррат знает эти места. Сколько раз она пробиралась верхом в самые потаенные охотничьи уголки, доверяя больше лошади, чем себе. Она словно что-то ищет, трудно сказать, что; она искала это в свои шестнадцать лет и теперь, в свои тридцать шесть… ищет то, что, как ей мнится, должно быть уничтожено.
Июльское солнце нехотя уходит из леса, оставляя на теплых стволах сосен золото и мед: сколько тут еще света! Теперь видна среди деревьев перспектива, прячущаяся днем в тень, видны расстояния. Видна идущая от пастбища к скалам тропинка: помедлив возле сбившихся в кучу молодых елок, она бросается опрометью в кусты можжевельника и выныривает на камнях, в зарослях цветущей лианы и шиповника, дальше можно только карабкаться. Сюда, впрочем, никто и не ходит, разве что барсук или лиса, и прежде чем лезть на камни, хватаясь за ползучие стебли и царапая в кровь руки, надо основательно сойти с ума.
– Зачем тебе туда?
Монтсеррат не отвечает и не оглядывается, словно забыв о Хельге. Она, видно, бывала тут раньше и теперь только берет, так сказать, свой же след. Вот она уже наверху, на небольшом плато, среди наваленных грудой камней, она что-то ищет. И Хельге остается только, яростно матерясь, лезть через кусты шиповника… чтобы он еще сюда пришел!
Солнце уходит неспеша с каменного пригорка, все еще золотя приникшие к скалам березы, высматривая робкую лиловость среди расцветающего вереска. Здесь можно лежать вдвоем, на сухом сером лишайнике, и никто в мире сюда не сунется. Здесь можно забыть время. Хельге ложится на спину, раскидывает среди вереска руки… но что-то заставляет его тут же вскочить, повернуться к Монтсеррат. Она сидит на самом краю узкой между камнями расселины и смотрит вниз, по ее хрупкому телу пробегает дрожь, тонкие пальцы сжимают прихваченную из конюшни веревку, на бледном, осунувшемся лице беспокойство и страх. Что она там увидела? Хельге подвигается к ней и тоже смотрит в расселину: туда можно ведь и свалиться.
– Ты мог бы… – неуверенно начинает Монтсеррат, – … спуститься туда?
Хельге пытливо на нее смотрит, он видит, что она всерьез, она что-то задумала. Он нехотя берет веревку, обвязывает ее узлом вокруг березового ствола.
– Ну? Что там?
– Разбей все это камнем… раскроши, раздави!
Уставившись на нее, Хельге невзначай припоминает газетную новость: кто-то бросил в горах незаконно абортированного ребенка… Монтсеррат?! Она лежала со многими, и нет в Харпестаде ни одного ходящего на своих ногах мужчины, от тринадцати до восьмидесяти лет, кто не обернулся бы ей вслед. Даже священник из местной церкви, и тот не исключение. Тонкая, болезненная, чувственная, хрупкая, изысканная, отрывающаяся от земли красота! Но можно ли представить себе Монтсеррат… матерью? Кормилицей, нянькой, домохозяйкой?
Хельге видит, что ей не по себе. Впрочем, она всегда не совсем здорова, с ее малокровием и низким давлением: ее красота отдает тленом. Именно этот утонченный привкус смерти и придает ее линиям такую неповторимость. Проведя ладонью по ее медным волосам, он тихо, с сожалением, спрашивает:
– Ты убила своего ребенка?
Она возмущенно, дико на него смотрит, губы ее дрожат.
– Я никогда не была беременна! Ни разу. Я нездорова… я… – она отворачивается, – … и это потому, что… что… что мне не удается это уничтожить… Разбей все это на куски!
Она вдруг с силой хватает его за руку, но он тут же руку высвобождает, отстраняясь от нее. Он не намерен вникать в этот ее бред.
– Я сама пыталась это сделать… – сбивчиво продолжает она, – … и я пытаюсь, снова и снова… Пытаюсь не одну сотню лет…
Хельге смотрит на нее хитро, с прищуром: никто так наивно и беззастенчиво его не дурил, другие девушки ему просто врали. И он поэтому смеется, нисколько не считаясь с ее озабоченностью. Его смех раздразнил сойку, и она с возмущенным криком пролетела низко над его головой, словно собираясь обдать волосы клейким пометом, но он только свистнул ей вслед… Этот его смех, уравновешенный и отчасти презрительный, вызывает у Монтсеррат ярость: она хватает его за воротник рубашки, кусает шею… кусает еще раз… Но он только смеется.
– У меня нет сил это разрушить, понимаешь, ты? – не отпуская его воротник, продолжает она, – Эти… – с дрожью добавляет она, – … кости! Они лежат там семьсот с лишним лет…
– Ладно, – сухо перебивает он ее, – я полезу.
Проверив крепость узла, он берет зажигалку и съезжает, упираясь ногой в скалу, на дно расселины. Это вовсе не так глубоко, как он думал, и тут, похоже, ничего и нет. Камни, гнилые еловые шишки, сухая листва. Какого, спрашивается, черта! Он щелкает зажигалкой, обводит ею тесное каменное пространство. Возле покатой боковой стены лежит среди мелких камней человеческий череп. Вот оно что! Должно быть, он лежит тут давно, может, не одну сотню лет, сквозь глазницу проросла лиана… Ткнув ботинком кучу мелких камней, осыпавшихся в расселину со скалы, он видит остатки костей, почти уже истлевшие, вытаскивает их, одну за другой, нащупывает металлический, размером с подкову, предмет. Под слоем пыли, сосновых иголок и паутины, эта вещица наверняка помнит давние времена, пролежав неизвестно сколько в этой проклятой горной щели. Царапнув металл ногтем, он протирает «подкову» краем рубашки, снова щелкает зажигалкой, смотрит: небольшая, грубо отлитая маска с разинутым четырехугольным ртом и уродливыми квадратными дырами для глаз. Ну и образина! Маска, говорящая тебе: «Пошел прочь!» За эту ерунду можно выменять у Лестничного Франка подвесной вентиллятор, настольную лампу или утюг… Франк знает толк в старье. Кстати, что это за металл… он царапает край маски камнем: блестит! Прямо как золото! То есть, это и есть золото, и ему черт знает сколько лет. Золото блестит всегда, даже если на нем кровь или дерьмо. Золото дороже крови, и нет такого в мире дерьма, которое не сгодилось бы сверкать «под золото». На редкость гнусная, кстати, маска. Это ее что ли имеет в виду Монтсеррат? Или эти, готовые рассыпаться в прах кости? Хельге бьет по ним камнем, вот так, еще и еще раз… одна только пыль… бьет камнем по черепу с проросшей через него лианой, но только обрубает толстый ползучий стебель… Черт! Этим камнем можно проломить не только череп. С камнем все в порядке. Что-то не так с этими дьявольскими останками.
– Сатана со всем своим дерьмом в аду! – кричит он, швыряя камень в скалу и хватая другой, первый попавшийся, – Протухшая крысиная блевотина! Русская атомная подлодка!
Он бьет по черепу снова и снова и наконец, отшвырнув камень, сплевывает: ни черта! И ему кажется, что проклятая образина ему улыбается: улыбается своей нетленной золотой улыбкой. И он снова сплевывает, попав точно в глазную дыру.
Это все, что он может сделать для Монтсеррат.
Он вылезает наверх, швыряет ей маску.
– Это дерьмо возьмешь разве что динамитом. Вот уж не думал, что черепа бывают такими крепкими.
Монтсеррат даже не смотрит на золотую вещицу, только безразлично кивает. Она выглядит совсем изнуренной, словно сама колотила изо всех сил булыжником.
– Я так и знала, – едва шепчет она, – пойдем…
Они молча спустились по тропинке к пастбищу, прошли в темноте через лес, и только возле подстриженных кустов сирени, окружавших двор, Монтсеррат решилась заговорить. Была уже ночь, прохладная и звездная, с запахами донника и созревающей ржи, с затаившей дыхание тишиною полей. Запрокинуть голову и унестись, устремиться к созвучиям любовно мерцающих звезд, к жару и осторожности этих космических прикосновений. Сколько любви в этих темных глубинах! И сам ты отзываешься только любовью на обращенный к тебе зов: каждая из этих звезд зовет тебя.
– Это я зову тебя, – устало говорит Монтсеррат, – зову прочь от этой земли, от скучной повторяемости ее детских игр с солнцем, от ее лунного сладострастного плодородия… Я зову к моей планете, более древней и гораздо более интеллигентной, чем весь этот подлунный, ха-ха, мир. Прочь от этой земли! Прочь!
Хельге с интересом ее слушает, ему нравится эта ее ненормальность. Нормальная девушка не станет бродить с ним ночью по лесу, нормальный мужчина не станет слушать подобное. Нормально дело обстояло у него всегда так: он увозил девушку в машине или на мотоцикле, потом спрашивал у ее матери, одобряет ли она это, и все до одной мамаши это одобряли, желая немедленной, по всем правилам, свадьбы. Сколько раз он мог уже жениться! Забавно ведь, что и мать Монтсеррат, эта ухоженная, мягкая, сдобная дама с дорогими автомобилями и беспроигрышными банковскими акциями, вяжет день и ночь носки… для будущих внуков! Совсем крошечные и на вырост, эти носки должны скрепить между ним и Монтсеррат их странный союз, переплести и если надо перепутать нити их судеб.
– Я родилась на маленьком острове в снежную бурю, ни одна лодка не смогла бы в ту ночь причалить, и мать была совсем одна, она родила меня на полу в ванной… Мне следовало, по мнению врачей, в ту же ночь умереть, но это было бы чертовски скучно: проделать долгий, в несколько столетий, звездный путь и тут же повернуть обратно… Хотя самое лучшее, держаться от земли подальше.
– На эту проклятую планету не стоило бы возвращаться, – охотно соглашается Хельге, – Везде полно дураков и мошенников, у каждого в крови сидит если не сам сатана, то по крайней мере политик! Этот политизированный сумасшедший дом! Этот инвалидский бордель! Черт знает, зачем я только сюда вернулся!
Монтсеррат словно оттаивает от его слов, его кипящее раздражение возвращает ей обычную небрежную самоуверенность. Она не ошиблась: Хельге пойдет за ней. «Мой, – с воодушевлением думает она, – и я твоя!»
– Откуда ты знаешь, что я Амундсдоттер? – вдруг спрашивает она, – Что я была когда-то ею…
Он пожимает плечами, молчит. Это имя пришло к нему однажды во сне: высветилось в фиолетово-синих, над бушующим морем, облаках. Он плыл вдоль скалистого берега на лодке, и в ней было полно воды, и он не успевал ее вычерпывать, он знал, что утонет. И он увидел в лодке ее, под рвущимся от ветра парусом: она была привязана к мачте. Он подумал было ее отвязать, но лодка уже тонула, захлебываясь пенными волнами… Он записал этот сон во всех подробностях, выведя в линованной тетради толстым маркером: Амундсдоттер. Он хотел узнать о ней больше, но сон этот не имел никакого продолжения.
– Ты утонула вместе со мной, – без всяких пояснений отвечает он, – Это было зимой, на скалах лежал снег.
Монтсеррат, отвернувшись, молчит, как будто что-то припоминает. Потом с прищуром на него смотрит, недоверчиво, пристально.
– Значит, и тогда нам было по пути.
– По пути в ад, – уточняет он, усмехнувшись.
Взяв его за руку, Монтсеррат тянет его за собой в темноту и тут же бросает, бежит по траве к дому, но он в два прыжка догоняет ее, хватает в охапку, сдавив так, что она еле дышит, наматывает на руку ее волосы, жарко дышит в лицо. Он хорошо видит в темноте, почти как днем, и слух у него как у рыси, но теперь эти чувства молчат: теперь он видит иное. Он переживает теперь Монтсеррат, наполняется ею.
– Ты хочешь владеть мною так, чтобы я не искал ничего больше на земле, – жарко шепчет он ей в лицо, – чтобы я не нашел то, что ищу…
– Ты это никогда не найдешь! – яростно шепчет она в ответ, – Этого на земле попросту нет! Есть только вечное, неутолимое стремление к красоте, есть только поклонение красоте! Поклонение мне!
Крепко держа ее за волосы, Хельге только усмехается. Ей не вырваться, не убежать, и это он ее поймал. И он поэтому не намерен экономить слова, их у него в достатке.
– Стану я красоте поклоняться! Это свидетельствовало бы против истины. Истина свободна, и она непременно моя. Истина есть, впрочем, нечто общее нам обоим, ни тебе, ни мне не противоречащее: это и есть зона свободы, здесь не имеет уже никакого смысла «поклонение» или «служение», здесь ты сам свой.
– Но это я вдохновляю тебя! Я даю тебе крылья и могучие воздушные течения, что, собственно, и есть свобода… Я даю тебе свободу!
Хельге презрительно фыркает, отпускает ее волосы, отходит в сторону. В темноте слышны только осторожные попискивания сверчков, вздохи лошадей в конюшне, отдаленное кваканье лягушек.
– Никто не может мне свободу дать, – внятно произносит он, – а то, что дается, будь оно самым желанным и долгожданным, рано или поздно оказывается цепью, клеткой.
– Ты не хочешь от меня это принять? – с чувством подаваясь к нему, выдыхает она в темноту, – Этот подарок?
– Нет.
Вернувшись домой около полуночи, он находит в почтовом ящике письмо. Он сразу узнает, от кого оно, узнает по облепившим конверт картинкам и броскому крупному шрифту: так всегда делает Хиллари. Он расстался с ней двадцать пять лет назад, и все эти годы она ему писала. Звала его обратно. Она писала короткие, не надоедливые, чуть игривые, внешне ни к чему не обязывающие, но основательно продуманные письма. Письма-снаряды, бьющие в одну и ту же цель.
Хельге давно уже не отвечает ей, уже много лет, и все его прежние попытки объяснить Хиллари, почему он не хочет с ней общаться, ни к чему не привели: обидевшись, она снова собирается с силами и с непринужденной доверительностью, дорого ей, впрочем, стоившей, принимается за свое. И Хельге не раз с облегчением думал о том, что Хиллари живет, слава Богу, в Америке и не может, как бы она того хотела, навещать его по воскресеньям.
Он прожил с ней целый год в душном, горячем, требовательном рабстве. Индейская кровь требовала в ней абсолютного и совершенно конкретного физического удовлетворения, при этом никогда не удовлетворяясь: телесность в своем тесном, удушающем плену, без малейшей надежды на преодоление раз и навсегда поставленных границ. Сойдясь с Хиллари достаточно близко, Хельге ужаснулся своей находке: из ее крепкого, смуглого тела на него смотрел, улыбаясь окровавленным ртом, древний, неистребимый бог смерти Таотль. Сколько раз, разбуженный Хиллари среди ночи, в ее лихорадочной, опьяняющей сексуальности Хельге узнавал смертельно ненавидящее его существо: ненасытно жаждущее и алчущее, свивающее дьявольской паутиной любое его душевное движение, склеротизирующее своей паучьей слюной его мысль. Этот паук и был божеством Хиллари, ее безграничным и полновластным хозяином. Она распускала по спине свои гладкие черные волосы, ее глаза горели в темноте желтым огнем, козьи груди с тугими сосками прожигали насквозь его самообладание… больше, еще больше, еще больше любви! Хиллари называла это любовью. Как-то раз, в постели, она резанула его бедро маникюрными ножницами… и тут же порезала себя, на внутренней части бедра, прижалась своим порезом к его царапине, затанцевала… Ничего более отвратительного он с женщинами не переживал: она хотела смешать свою кровь с его кровью! Но самым отвратительтным было то, что он сам вожделел к ее горячему индейскому телу на этой окровавленной простыне.
Хиллари могла бы затанцевать его, окровавленного, насмерть.
Он уехал, удрал от нее, выжег ее страсть из своих пор, высушил на африканском солнце свое к ней влечение. Ему понадобилась Сахара, с ее опустошающей жаждой и унылостью ее песчаных бурь, чтобы придти в себя. И когда он через полгода вернулся, Хиллари стала для него уже ничем, пустым местом, высохшей, ни на что уже не годной оболочкой его иллюзий. Она перестала быть для него опасной, перестала для него быть. Но сам он по-прежнему оставался ее целью и горизонтом, ее кипящим адом и ледяной, мертвящей тоской. Он один, Хельге Нордли, был ее жизненным ключом, хотя вокруг сновало много других мужчин. Но он вернулся из Сахары недоступным. Он не лег бы теперь ни с одной женщиной, не убедившись, что его влечет именно ее дух.
Держа в руке письмо, он садится в кресло, неспеша распечатывает, надевает очки. В письме, как обычно, много картинок: фотографии техасских пейзажей и вилл, знакомых и незнакомых людей, машин, кактусов, кошек. На одной из картинок мормонская белая церковь и свадебная процессия, на другой увитая искусственными розами широкая постель. Это в стиле Хиллари: выражаться конкретно. Кстати, это ее постель. Ее, между прочим, дом в Техасе, ее мотоцикл, ее кошки… Отложив письмо в сторону, Хельге зажигает на письменном столе свечу, ставит ее напротив окна. Много на свете обезьян, копирующих, подражающих, перевирающих и в конце концов дурачащих самих себя. Но кто из них, этих мастеров и подмастерьев лжи, решится повторить его одиночество?
Его одиночество дано только ему.
Хельге вспоминает, как два года назад Хиллари нашла его здесь, в Харпестаде. Никто ведь не запрещает ей ездить по всему свету, с ее американским правом на «вход» и «присутствие». Она нагрянула, со своей американской общительностью, к его матери в Лофотен, представившись «старой подругой» и «почти женой», нашла других его родственников, перезнакомилась с их детьми, женами и мужьями, встряхнула старых, уже забывших ее знакомых, знавших о Хельге «кое-что» и «все», и только после этого, в клубах симпатии, одобрения и любопытства, явилась к нему на опушку леса. Наконец-то, наконец-то, наконец!
Он одолжил ей свою палатку, и когда залез вовнутрь, расстилая старое ватное одеяло, Хиллари сказала ему, что неплохо бы… ну, да, как обычно. Он не мешкая лег на нее, придавив ее своей тяжестью, но в ту же секунду вскочил и вылез из палатки наружу. Она должна знать, что он свободен, свободен лежать или не лежать с ней, что ему дьявольски все равно, лежит ли сама Хиллари в одолженной им палатке или на ближайшем кладбище. Он дал ей, пожалуй, слишком много: дал ей почувствовать тяжесть своего тела… обмочившись, она стирала потом под краном трусы.
Теперь она пишет, что обмочилась тогда от восторга, как это случается у животных. Она сушила трусы на веревке и теперь посылает фотографию: тут палатка, там связка прищепок… Она хочет снова лежать с ним в палатке… или на увитой искусственными розами техасской постели.
Пододвинув свечу поближе, Хельге нащупывает в ящике стола лист бумаги, он хочет написать ей прямо сейчас. Написать ей, что у него есть Монтсеррат.
Он пишет крупным, размашистым почерком, ему мало одной страницы. И хотя уже второй час ночи, спать он совсем не хочет. Ну вот, запечатал конверт, наклеил марку. Глянув в окно, он замечает среди деревьев свет от фонаря, кто-то торопливо идет к дому, двое или трое. Ему нет нужды запирать дверь, возле порога у него топор. На стене висит всамделишный меч, прямой, с серебряной ручкой, в точности как на картине Гейра Сивертсена. Задув свечу, он смотрит в окно: это Монтсеррат с двумя приятелями, двадцативосьмилетним сыном бонда и пятидесятипятилетним Лестничным Франком. Все трое веселы и идут в обнимку, норовя одновременно наступить в плящущее на траве пятно света от карманного фонарика. Сняв со стены меч, Хельге сбрасывает на пол рубашку и джинсы, обматывается до пояса красным флисовым пледом, становится с занесенным мечом у входа. Они думают, что их шеи так уж прочны!
– Это я, – кричит Монтсеррат, – Эти дурни провожают меня, у нас с собой пиво.
Все трое хвалят меч, такими рубились викинги. Оба парня примеряют по очереди меч к руке, и Хельге, в одних трусах и босиком, кладет голову на широкий, накрытый красным пледом, подлокотник кресла.
– Помнишь, как тебя казнили?… – положив свою голову рядом, шепчет ему Монтсеррат. Она нащупывает пальцами позвонок на его шее, проводит по нему ребром ладони, – Здесь… здесь прошел меч…
– Топор, – поправляет он ее, – Рубить головы мечом годится разве что для арабов. Меня же зарубили топором… это было посреди зимы, в лесу…
Франк и сын бонда хмыкают, Хельге нередко говорит странные вещи, одно удовольствие послушать, это освежает, почти как холодное пиво.
– Откуда тебе это известно? – недоверчиво спрашивает Монтсеррат, – Ты что-нибудь… помнишь?
Хельге только фыркает. Монтсеррат молча закуривает. Парням пора уже сматываться, теперь тут ее время.
– Эй, вы, проваливайте, – обнимая Хельге за талию, дерзит она. В ее компании так принято: она говорит, что ей вздумается, остальные слушают. Они, может, ничего вовсе и не слышат, придурки. Прихватив пустые банки от пива, оба идут в темноту, и слышно, как они мочатся под деревом.
Монтсеррат не была тут два дня, и всё тут, конечно, на своих местах, то есть обычный беспорядок. Какое-то письмо… она берет со стола листок, смотрит на облепившие текст картинки… какая-то Хиллари… черт! Она садится в кресло, читает, пока Хельге моется в душе, пока ищет в комоде чистые трусы…
– Как она смеет! – швырнув письмо обратно на стол, возмущенно шепчет Монтсеррат, – Она не знает, что здесь я… я!
– Именно это я ей и написал, – равнодушно поясняет Хельге, бреясь перед зеркалом.
– Нет, я сама напишу ей об этом!
Хельге безразлично пожимает плечами: пусть, если хотят, переписываются. И ему совершенно не интересно, что собирается Монтсеррат написать американке. Такая переписка могла бы занять у них остаток жизни.
Побрившись, чтобы утром, перед работой, не суетиться, он ложится на нары, укрывается двуспальным стеганым одеялом, и уже через минуту из тесной спальни слышится его сопенье.
Толстая свеча медленно оплывает, обгоревший фитиль тонет в расплавленном парафине, и хотя света осталось чуть-чуть, Монтсеррат продолжает писать. Она едва ли знает, кому пишет, но ей кажется, что с этой американкой у нее давнишний счет. Ее раздражение столь велико, что, окажись Хиллари сейчас тут, ей наверняка пришлось бы… пришлось бы считать на морде синяки! Но было бы еще лучше тут же и придушить гадину…
– Ах, о чем это я думаю… стыдобище!
Всем своим хрупким, чувствительным телом Монтсеррат переживает теперь тошнотворное унижение, словно кто-то грубо и бесстыдно поставил ее на место. Ей ли это, выросшей в мастерской отца, среди картин и старых вещей, устраивать пошлые разборки? Эта американка провоцирует ее, рвет в клочья ее самые тонкие материи… да просто не желает ничего знать о ее высоко взметнувшейся свободе.
– Как она смеет! – увязая в неразборчивых каракулях, возмущенно шепчет Монтсеррат, – Увитая розами свадебная постель!
Особенно уязвляют Монтсеррат старые, двадцатипятилетней давности, фотографии: те же самые места, где она сама часто появляется с Хельге, маленькие, в центре Харпестада, кафе, библиотека, вокзал… Двадцать пять лет назад все это выглядело точно так же, как и теперь, но тогда все это видела Хиллари!
Послюнив и запечатав конверт, Монтсеррат тут же жалеет, что поспешила: следовало бы добавить выражения покрепче. У нее никогда не было соперниц, она бросала мужчин раньше, чем за их спиной начинала маячить чья-то ревность. Но теперь, сидя среди ночи перед догорающей свечой, она ощущает под ребрами странный холод: что-то омерзительное и ужасное вползает в нее, учиняя над ней утонченное насилие. Кто-то едет на ней верхом, забив ее плетью насмерть.
– Как она смеет!!! – кричит она, разбудив Хельге.
– Проклятая дьявольская старуха… – бормочет он, не известно кого имея в виду, и тут же снова принимается сопеть.
Монтсеррат идет к нему в спальню. Ее атласная, вышитая шелком ночная рубашка валяется на полу вместе с его дырявыми рабочими носками, на округлом подоконнике возле маленького решетчатого окошка громко тикает ее будильник. Теперь здесь ее время! Отбросив край стеганого одеяла, она ныряет в его тепло. Надежное, в любой холод, тепло.
Многие женщины этого хотят, и хотят напрасно, будучи не в силах это тепло удержать. Этот взрывоопасный жар, эта молниеносная реактивность, эта граничащая с инстинктом понятливость говорит Монтсеррат о многом: Хельге развит иначе, чем все, кого она знала прежде. Он из тех немногих, все еще изредка рождающихся в этой холодной части света, кому не нужны никакие школы, никакое образование, никакая система: он пришел на эту, не слишком привлекательную для него планету, чтобы только отбыть срок. Он явился сюда с невостребованными самой этой жизнью запасами, ну, что ли с золотым руном. И ему плевать, что думают об этом другие. Ему плевать на то, что он мог бы быть в этой жизни королем.
Его лицо так спокойно, так серьезно во сне. Только щеки чуть провалились и скулы выступают резче. Таким, наверное, он будет в момент смерти… Упершись подбородком в подушку, Монтсеррат слушает его редкие, глубокие вздохи, приближает к нему лицо, касается ресницами его щеки… И он тут же бьет ногой в стену, кричит, бьет и бьет, будильник срывается с подоконника… Одно только ресничное прикосновение! Ему приснилось, что в комнату лезет медведь. Он снова закрывает глаза, и Монтсеррат поднимает с пола одеяло, комом набрасывает на него. Сама она лежит раздетая, и просочившийся сквозь ветви елей лунный свет ревниво обрисовывает ее чувственную хрупкость. Она мечтает о Хельге. В свои тридцать шесть она даже и не подозревала, что можно вот так, лежа с кем-то в одной постели, о нем же и мечтать. Мечтают ведь обычно о далеком. Это неодолимое между нею и Хельге расстояние! Одно дело, игривые барашки волн, и совсем другое дело, скрывающаяся под ними глубина. Хельге никогда по-настоящему не был с нею, он был только возле нее. С другими у нее получалось то же самое, но с ним она желает гораздо большего: войти в него, переполнить его собою. Иногда ей кажется, что он уже полон кем-то и кого-то напряженно ждет, дарит кому-то втайне свое одиночество… Кому?
Монтсеррат встает и снова идет к письменному столу, перебирает в лунном свете лежащие стопкой бумаги. Квитанции, телефонные счета… электричество, антенна, квартплата… письма! И все они от Хиллари.
Вернувшись в спальню, Монтсеррат лежит с открытыми глазами, и луна светит теперь ей прямо в лицо. Хельге тоже не спит, он знает, что она нашла эти дурацкие письма, и ему досадно: не выспаться из-за таких пустяков. Лицо Монтсеррат совсем белое, как у замерзшего утопленника, лунный свет истончает и без того тонкие черты, делает их прозрачными. И из этой предрассветной прозрачности на Хельге смотрит другая женщина, давно куда-то ушедшая, забытая и пропавшая.
– Там, в расселине… – почти не шевеля губами, шепчет она, – Там лежат мои останки.