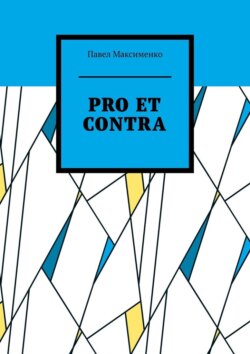Читать книгу PRO ET CONTRA. Вольные рассуждения о русском радикализме - Павел Максименко - Страница 4
I
ВЗГЛЯД СВЕРХУ
2. Освободители и Освобожденные
ОглавлениеВ этом новом климате множество проблем, не считая крепостничества, требовали срочного решения. Уже в XVIII веке они глубоко волновали всех тех, кто был серьезно обеспокоен состоянием российского общества, а теперь это стало прототипом морального и социального выживания.
Время от времени возникают явления, которые обсуждаются и сталкиваются друг с другом, и чьё значение выходит за рамки их первоначальности, так как они заставляют людей смотреть на реальность под другим углом. Фундаментальное равенство людей было очевидным: это была не просто битва рабов и наёмников, это также перекликалось с голосом возмущённой человеческой природы. Это был продукт Французской революции, и стало очевидным для всех людей и навсегда, и, возможно, это породило фальсификацию понятий в последующей истории. По иронии Александр II стал инструментом, с помощью которого важная истина Французской революции запоздало (через семьдесят два года после отмены крепостничества во Франции, но за четыре года до отмены рабства в Америке) стала применяться в России. В какой-то степени это подтверждает мнение некоторых, которые называют шестидесятые «нашим сокращённым восемнадцатым веком» (Лев Троцкий). Попытка Александра, пусть и не совсем искренняя, перенести проблему крепостничества в открытое обсуждение, сама по себе была похожа на революцию, которая вызывала качественные изменения в характере и направленности русского исторического развития, а также послужившая облегчению судьбы крестьянина, немало заботившей многих русских мыслителей.
Крестьяне в конечном итоге проиграли землевладельцам (и через них государству) ещё в семнадцатом веке. И хотя формально они не были рабами, но могли быть проданы одним помещиком другому, то есть обладали всеми признаками товара. Этот аромат безнравственности витал плотным слоем над всей Россией. Два крупнейших русских реформатора – Пётр I и Екатерина II – сделали главное: они смогли дефрагментировать общество, сильно раздробленное в XVII веке. Крестьянство с этого момента стало представлять отдельный класс, правда без официального статуса и без прав. Но также благодаря этим реформатором стало возможным и появление «обязанных крестьян», как они были определены в законе от 1842 года. Эти крестьяне были обязаны платить своему владельцу, помимо государственных налогов, оброк, в денежном или товарном выражении, или же отрабатывать этот оброк в форме барщины. Деревенская община, в которой они состояли, периодически пересматривала пропорции земельных наделов. И несмотря на то, что Александр I запретил помещикам заставлять крестьян работать по воскресеньям, практика семидневной рабочей недели сохранилась вплоть до отмены крепостного права. Многие из равных им по положению крестьян были домашними работниками (дворовыми), а также использовались на любых других работах по усмотрению помещика. По сути, часть крестьян была своеобразным сельским пролетариатом. Хозяин имел все возможности практически уничтожить крестьянина, например, отдав его в солдаты или сослав в Сибирь. Поводом могла послужить любая незначительная мелочь.
Система крепостного права со временем начала проявлять экономические ошибки, но обеспечивала доминирующее положение дворянства, и даже сам царь назвал крепостничество «основной опорой трона». Екатерина Великая бросила упрёком Французской революции «je suis aristocrate, fest mon métier»3
Но доминирующая часть мелкопоместного дворянства на всей территории России, находясь под угрозой со стороны непредвиденного противника, крестьян, часто подумывала о том, чтобы жить в соответствии с принятыми консервативными правилами. Общность крестьян делала возможность их объединения в протестующие группы, что составляло если не основную, то значимую опасность для дворянства.
Крестьянские восстания стали повторяющимся феноменом начиная с XVII века: Иван Болотников (умер в 1608 году), Степан Разин (умер в 1771 году), Кондратий Булавин (1660—1708), Емельян Пугачёв (1742—1775) – это известные и легендарные имена крестьянских мятежников. Сопротивление ослабевало одновременно с укреплением государственности и с развитием аппарата подавления. Ситуация стала тревожной в правление Николая I (когда в разных частях России по неточным данным было 674 крестьянских восстания). Следующее подобное сопротивление государству случилось лишь в 1905 году.
В условиях господствующей цензуры невозможно было изучать, обсуждать или даже публично упоминать эти революционные события, но в архивах Третьего отделения Собственной канцелярии Его Императорского Величества (так называлась тайная полиция) и в министерстве внутренних дел хранились записи подробностей о подобных вспышках. Эта угроза был в некоторой степени более тревожной, чем провокационный либерализм просвещённого класса, «безвредные злоречья», как это называл сам Николай, который в любом случае был под надзором всевидящего Аргуса Третьего отделения. Герцен, Бакунин и другие опасные радикалы были за границей, но «бунт бессмысленный и беспощадный» крепостных зловеще и непредсказуемо маячил на горизонте.
Не так-то просто сформировать точную картину революционных настроений среди крестьян до отмены крепостного права. Архивы предоставляют некоторый освещающий материал, но это не даёт ясного представления о характере крестьян. Правильнее обращаться к мемуарам и переписке тех, у кого был личный опыт сельской жизни. Свидетельства славянофилов могут считаться особенно важными и лишены обвинения в любой радикальной предвзятости, несмотря на их убежденность в том, что дворянство отделило народ от царя. Юрий Самарин был совершенно не в себе, когда говорил о преобладающем революционном настроении среди крестьян, а выдающийся консервативный историк Михаил Погодин во время Крымской войны писал, что «мы не боимся Мирабо, но мы боимся Емельки Пугачёва; никто не встанет на сторону Мадзини, но Стенке Разину нужно только сказать слово! Вот где скрывается наша революция, вот где наша опасность. И хотя сейчас не убивают по тридцать землевладельцев ежегодно – злобных жертв права на тиранию по отношению к другим – это и есть местные революции, которым не хватает только координации, чтобы приобрести особое значение».
Как обычно, рабство служило для того, чтобы одурманить разум и превращать людей в непримиримых жертв тех, кто поработил их. Несколько отдельных крестьян смогли купить свободу, несмотря на огромную плату за выкуп, или оказывая хорошие услуги, управляя делами их хозяев, играя в их оркестрах и театрах. Некоторые даже умудрились разбогатеть сами, и в свою очередь эксплуатировали подневольный труд (например, знаменитый крестьянский завод во Владимирской губернии, который платил своему хозяину – графу Шереметьеву – 20 000 рублей в год).
В условиях нарастающего недовольства правительство временно усомнилось в эффективности политики палки, которая привела к таким отчаянным провалам во время Крымской войны. Поражение в войне было как экономическим и финансовым, так и военным.
В интересах как правительства, так и правящего класса, стало создание новой производительной силы, и крепостное право сильно затрудняло эту задачу. Не только российская промышленность, но и сельское хозяйство в XVII и XVIII веках полагались на рабское сельское население, то есть бесплатную, дешевую и мобильную рабочую силу. Некоторые историки, будучи удовлетворены тем, что это дает единственное адекватное объяснение реформ, инициированных Александром II, утверждают, что они (реформы), соответствовали логике социального и исторического развития и были простой функцией изменения цены на зерно (Михаил Покровский); что изменения произошли бы и без какого-либо давления сверху или снизу, если бы русское дворянство было способно интерпретировать свои собственные интересы в то время, и что обнищание некоторых землевладельцев, вызванное реформами, не повлияло на конечный результат, а именно на выживание и даже возрождение русского дворянства в его переходном периоде от феодализма к капитализму.
Это сразу приводит нас к аргументу тех, кто верит в историческую неизбежность, которая неумолимо разворачивается, двигая все вещи и всех людей в предопределенном направлении к неизбежному концу. Кроме того, голос неприглядного «адвоката дьявола» нашёптывает нам, что человек лишь маскирует себя доброжелательностью, и что он имеет в виду «ложь», когда говорит «правда». Сомнительно, может ли честный историк избегать быть в какой-то мере адвокатом дьявола, хотя нет причин, по которой он должен рассматривать экономическую связь как единственный источник мотивации, позволяющий людям затуманивать правду и делать парад теней главенствующим. История – это продукт не логики, а людей. Они обеспечивают вариативность, которая отсутствует в предопределенных схемах, контрасты между намерениями и достижениями, усилиями и неудачами, надеждами и разочарованиями, решениями и политикой. Действительно, сама «логика» судьбы и несчастья истории проявляется как результат действий людей. И поэтому трудно оценить человеческое впечатление от последствий таких действий. История изобилует неразрешимыми, на первый взгляд, конфликтами между свободой и необходимостью: это сфера действий и ответственности человека, и, тем не менее, она сама по себе не преследует задачи конца. Человек покалечен самим собой и погибает в себе. Достижения человека, но также и его дела, увеличивают ограничения его свободы; цели, которые когда-то реализованы, отступают перед ним и иллюзии превращаются в жесткую и навязчивую реальность. Никаких объективных «детерминизмов» не может быть найдено против исторических объяснений, которые обнаруживают специфическую логику, мрачный импульс в ходе и последствиях человеческой деятельности.
В любом случае, в настоящее время уже невозможно занять позицию традиционных русских историков, которые приписывают упразднение крепостничества к гениальным прозрениям Александра в сторону всеобщего блага и к его милосердному расположению: они могли быть достаточно реальными, но они никогда не заставляли его делать что-либо, чтобы предвосхищать систему, которая так явно уравнивает собственный консерватизм с моральными ценностями. Это также не может быть приписано всплеску общественного сознания, которое привело дворян к тому, чтобы посвятить себя улучшению положения крестьян; на самом деле они действовали не столько от полноты их сердец, как от пустоты их карманов; они были готовы отпустить крестьянина, но сохранить его труд и свою землю исключительно для своих целей.
Тем не менее, сверху было давление, и важно проанализировать его стимулы и последствия, чтобы понять положение русского общества в шестидесятые годы XIX века. В Манифесте о заключении Парижского мира в 1856 г. Александр II пообещал русскому народу возможность «наслаждаться плодами своего труда», а вскоре после этого, в его знаменитом выступлении перед представителями дворянства Москвы, он сказал, перекликаясь с Радищевым и Герценом, что «лучше отменить крепостное право сверху, чем ждать, пока оно начнет уничтожить себя снизу». «Господа, я слышал, что среди вас циркулируют слухи о том. что я намерен отменить крепостное право: это неправда, и вы можете сообщить это всем и вся. Но, к сожалению, вражда между крестьянами и их землевладельцами существует, и это причина уже уже случавшихся неповиновений землевладельцам. Я убежден, что рано или поздно мы должны это сделать. Я думаю, что вы согласны со мной».
Первой реакцией на инициативу царя, однако, было лишь оцепенение, даже у того дворянства, которое предпочитало ужас реформ, как сказал Юрий Самарин в минуту откровенности, «преждевременные действия правительства, а также людской гнев», в то время как другие предположили, что «вся проблема была придуман людьми, у которых нет недвижимого имущества: ученые, теоретики и сыновья духовенства» (Муравьёв).
Действительно, из документов, сопровождающих процесс подготовки окончательного урегулирования, следует, что смесь из страха и беспокойства захватила умы дворянства. Они знали, что реформа будет азартной игрой, но надеялись, что это будет игра, которая принесёт богатым дивиденды. Страх, как мы увидим, скоро распространится на правительство, которое, когда дело доходило до практического решения, никогда не ставило под сомнение важнейшие интересы дворянства. Однако правительство, в частности, министр внутренних дел Сергей Ланской и его ассистент Дмитрий Милютин, вместе с такими откровенными защитниками освобождения крестьян, как брат и тётка царя, само по себе было инициатором реформы.
Способ, которым всё урегулировалось был прост. После неоднократных напоминаний и увещеваний правительства, дворянством различных губерний были сформированным комитеты по подготовке проектов документов об освобождении крестьян. Проекты были переданы центральному комитету, заседающему в Санкт-Петербурге, состоящему по большей части из чиновников, чьей обязанностью было сравнить эти проекты и разработать окончательную схему, которая была бы представлена на утверждение в Государственный совет, верховный законодательный орган царя. Затем это утверждалось царём и его манифестом, который публиковался сразу же.
История провинциальных комитетов очень поучительна, так как она показывает как трагическое отсутствие солидарности с людьми, которых дворянство лишало свободы, так и поразительное несоответствие между тем, что дворянство исповедовало и что делало на самом деле. Это очень характерно для режима Александр II, любое действие которого вязло в песке неэффективности и увиливания.
Было бы совершенно неправильным представлять, что никто не действовал по убеждению, и что все комитеты состояли из жадных сторонников старой экономики. Был естественный всплеск разговоров и споров; не было напряженности только между комитетами и правительством, а также между различными комитетами и между членами внутри комитетов. Были «либеральные» и «консервативные» тенденции. Сам факт того, что такой важный вопрос был поднят на открытой и свободно обсуждаемой основе создал интеллектуальное брожение. Этот фермент затронул многие слои общества, обладающие здравым смыслом нового сознания. Это было понятнее и весомее по сравнению с захлестнувшей всю страну показухой. Но при всём этом, даже самым осторожный исследователь не может избежать грубого и обескураживающего факта, что старый социальный уклад утвердился, представляя собой острый вопрос о влиянии социальной детерминации на характер человеческих идей и поведения.
«В прошлом, как правило, две партии боролись в наших провинциях», писал Салтыков-Щедрин в своей «Сатирической прозе» как своё собственное наблюдение в качестве активного члена провинциального бюрократического слоя, «партия отставного предводителя дворянства и его преемника; обе стороны занимались исключительно застольями с выпивкой в домах соответствующих покровителей. Их борьба не была политической вообще. Сегодня говорят все и обо всём, иногда кажется, что мир утонет в потоке слов, стонов и шума. Мы теперь все реакционеры, у нас есть ярые либералы и умеренные либералы; у нас даже есть люди, которые согласны со всеми и надеются как-то проскользнуть посредине. Теперь у нас есть два основные партии; реакционеры и либералы (естественно, умеренные). Трудно судить о том, чего хотят реакционеры или что хотят либералы. Но если настаивать на определениях, то это такая же хорошая догадка, как и в любое другое: первое – реакционно- либерально, а второе – либерально-реакционное». Менее сатирический взгляд покажет, что расхождения в рекомендациях провинциальных комитетов были обусловлены лишь разными экономическими условиями в различных регионах.
Ни один крестьянин не участвовал в работе комитета и ни один не был консультантом по вопросу его предполагаемой свободы. Крестьянство в каждом регионе был якобы представлено двумя делегатами. Они были назначены губернатором, высшим местным органом правительства, и были набраны из рядов землевладельческого дворянства, как и председатели комитетов (провинциальные предводители дворянства) и другие делегаты, собранные уездными дворянскими собраниями. Дело в том, что работа комитетов сопровождалась оргиями, гала-ужинами с тостами за Александра и речи в честь «славного русского дворянства», – все это была плохая подготовка к тому, что один из ораторов назвал «нашей высшей жертвой на алтарь общего блага». «Масса самовосхвалений и патриотических выступлений, произнесенных делегатами в ходе эти действия оставляют болезненное впечатление; а просветленный либерал Константин Кавелин назвал всё это таким «памятником неискренности».
Кроме того, всегда была горстка недовольных обедневших землевладельцев, живущих на нескольких дюжинах душ, которая чувствовала себя уверенно, что бы ни случилось, и, понимая, что несмотря на все тревоги, система будет продолжать действовать от их имени; и они были поддержаны в этом самим царем, который, не смотря ни на что, готов был пойти на любые политические уступки дворянам, и торжественно объявил в 1859 году и, повторно, в 1861 году о своей решимости защищать их экономические интересы. В данных обстоятельствах не удивительно, что ни один из 1377 местных членов комитетов, какими бы ни были их предрассудки, не выступал против старого порядка во всей его полноте. В XVIII и в начале XIX века представление о том, что «души» могут быть легко и выгодно обменяны на породистых собак, конечно же, было кивком в сторону нелепого и неэкономичного анахронизма. Дворянству нужна была реальная прибыль от их поместий, или, как выразился Юрий Самарин: «дворянство пришло к пониманию необходимости более внимательно относиться к своим делам, увеличивающим их доходы». Менее прогрессивные считали такие доходы зависимыми от удержания как можно большего количества земли и увековечивания барщины в той или иной форме. Они полагались на «натуральную» аграрную экономику, которая, говоря словами Павла Киселёва, «работала сама по себе» без помощи какого-либо центрального органа власти. Эти идеи доминировали в некоторых самых важных комитетах (например, Санкт-Петербурга и Москвы), и одним из их главных и самых благородных представителей был Юрий Самарин, аферист и убеждённый противник крепостного права, но и столь же убеждённый защитник барщины. Он, вместе с другими славянофилами или близкими к славянофилам членам дворянства центральной России, был очень подозрителен в отношении всего, что могло бы способствовать усилению дифференциации и индустриализации российского общества, потому что такая тенденция выкорчевывала крестьянство, уничтожало примитивную простоту и разрывала органичные узы традиций, почтения и долга.
Оброк, в отличие от барщины, по мнению Самарина, стимулировал расслоение крестьянского общества, внедряя квази-капиталистические отношения денежной экономики. Поддержание органичных отношений между землевладельцем и крестьянином (в том числе под надзором полиции) способствовало сохранению русской души от испорченности подрывным, мошенническим, стригущим и формализующим дух буржуазным обществом Западной Европы. Более внимательное изучение фактов, однако, показывает, что в патерналистских настроениях русских землевладельцев было очень мало естественной близости к людям, которыми они правили, даже когда у них были благие намерения. Они могли возводить поместья, как, например, Алексей Хомяков, друг и учитель Самарина, по выгодной цене, используя по его собственным словам, «неумолимые подати и повинности», но они не смогли создать органичное общество, что бы это ни означало. Никто, наверное, не чувствовал этого более остро и больно, чем Лев Толстой, который был полон решимости «установить человеческие отношения с крестьянами», но должен был признать (в своем дневнике и в «Утре хозяев») непреодолимое отчуждение и отсутствие взаимопонимания между землевладельцами и «народом».
Более прогрессивные комитеты (Тверь, Калуга, Харьков), которые были в меньшинстве, настаивали на удалении феодальных ограничений и необходимости капитальных вложения в сельское хозяйство. Многие из них бедные, но доброжелательные землевладельцы, желавшие капитулировать в обмен на большую компенсацию, которая бы основывалась не столько на стоимости земли, сколько на стоимости услуг крестьян, живущих на земле, или их способности платить арендную плату. Но большинство землевладельцев были единодушны в отношении освобождении крестьян как меры, которая превратила бы крестьянина в работника, либо в сельском хозяйстве, либо в промышленности, без предоставления ему любого права собственности на любую часть земли. В то время как крестьянин выражал свое отношение в часто цитируемой фразе «Я принадлежу тебе, но земля принадлежит мне», ответ его хозяина звучал примерно так: «Когда ты больше не принадлежишь мне земля, на которой ты будешь жить, больше не будет твоей».
На протяжении всех этих обсуждений вопрос о качестве земли оказался не менее важен для влияния на рекомендации комитетов. Неудивительно, что те землевладельцы, чьи поместья лежали в богатом чернозёмном поясе (Воронежская, Тамбовская, Курская, Орловская губернии, Полтава, Екатеринослав, Херсон, Таврида и часть Рязани и Симбирск) почти без исключения поддерживали освобождение крепостных без земли. Их поля мало страдали от эрозии, возделывание было дешевым и требовало мало инвестиций. «Наш ценный товар», заявил князь Черкасский, член группы Самарина, «не должен отчуждаться». Эти землевладельцы даже не возражали против предоставления крестьянам полной личной свободы без выплаты компенсаций, пока они (землевладельцы) могли бы держать всё в руках и получить высокие надбавки за те участки земли, которые до сих пор использовались крестьянами; в то время как землевладельцы из бедных или промышленных регионов, ожидали возмещения, прежде всего, за потерю ценной бесплатной рабочей силы.
Менталитет дворянства из богатых провинций изящно проиллюстрирован Погодиным: «Можно было бы легко дать крестьянам серебряный рубль», – писал он – «обеспечивающий их водкой и добавить к этому исполнение „Тебе Бога хвалим“. Посчитано, что обработка земли с помощью наемных людей несравнимо более выгодна, так как этих людей нужно кормить только во время работы, а в остальное время они вполне могут и попрошайничать. Но если они принадлежат тебе, ты должен кормить их круглый год, всю сволочь, и стар, и млад». Но такое мнение кажется слишком нескромно циничным, чтобы его можно было принять всерьёз, как бы оно ни было близко к аргументам респектабельного среднего класса Англии, посвятившего себя идее взаимопомощи и христианской доброжелательности, но выступавшего против Фабричных Актов (Factory Acts), препятствовавших «свободе труда».
Один из самых активных и интересных персонажей прогрессивной группы был Алексей Унковский, предводитель дворянства и председатель Тверского комитета. Для него вопрос об освобождении крестьян был лишь одним из аспектов политики и экономического оздоровления России в целом, и он резонно противопоставил то, что он назвал «огромной системой злонамеренных действий, которая возвышается в России до достоинства государственного управления». Он представлял собой новый тип российского землевладельца, далекого не только от толпы обывательских провинциалов, но и от просвещённых славянофильских землевладельцев, которые сыграли важную роль в подготовке земельной реформы.
Рыцарь фермерства, для которого земля была священной и наделявшей жизнь каким-то волшебным качеством правды. Действительно, это было более чем причудливо – приписывать такие свойства эродированной, обедненной почве. Точно так же, как и идеализировать крестьянство, живущее на грани голодной смерти в вечной борьбе с голодом и засухой. Но Тверь была коммерческим центром и местом расположения важных предприятий текстильной промышленности, и дворянство провинции могло бы повысить свое благосостояние за счет рационализации промышленности и сельского хозяйства, используя для этого дешевую рабочую силу. Тем не менее, хотя в конце концов он полностью уступил официальной позиции, шестидесятилетний Унковский проявил мужество, которое было редким среди современных ему землевладельцев и среди лизоблюдцев монархии. Более того, это было сочетание общественного духа с чувством долга, которым не повезло с их владельцем, так как он был помещен под наблюдение полиции и изгнан на короткий срок в отдаленные провинции. Он сражался на двух фронтах: против государственной опеки (несмотря на поддержку государства) и компенсаций за любые убытки, которые может понести дворянство, сдавая в аренду крестьянам землю; и против того, что он назвал «иллюзорной вольностью» крестьянского господства, т.е. свободы без земли, за которую выступают «наши феодальные землевладельцы намеренные увековечить самодовольство и беспорядочность во главе господствующего и нелепого иерархического порядка».
Унковский и его либеральная группа предпочитали свободу крестьянства как более благоприятное условие для развития эффективного и прибыльного сельского хозяйства. Но, несмотря на то, что они были вовлечены в новую социальную жизнь и экономические неизбежности, им было трудно приспособиться к буржуазному образу жизни и мыслей. До конца века, а в некоторых случаях и позже, им удавалось, как и декабристам и радикалам во время царствование Екатерины II, ощущение относительной свободы от давления времени и событий, неумолимых для людей занятых. Это касалось многих членов идеалистически образованного «среднего дворянства», которое Иван Тургенев и Лев Толстой сделали таким узнаваемым и очаровательным в своих романах, и даже мрачная картина Михаила Салтыкова-Щедрина совсем не преуспела в развенчивании. Возможно, будучи ленивыми, чувственными и снисходительными к себе, они, тем не менее, были относительно свободны от тягот зависти и личных амбиций. И все же даже Унковский колебался между идеей дворянства, осуществляющим естественную власть над лояльным крестьянством и «абсолютными правами сторонников частной собственности», независимо от социального происхождения владельца. Он в какой-то степени проявил себя как растущий покупатель буржуазного общества в России в шестидесятых годах, и это случилось под давлением Тверского дворянства по случаю его первой попытки изменить закон об освобождении, когда он отказался от «всех привилегий на своё имущество».
В конце 1859 года работа комитетов была завершена под аккомпанемент «Тебе Бога хвалим» перед чудотворными иконами и речей в честь дворянства и Императора, в которых, насколько известно, ни слова не прозвучало о крестьянине, чью судьбу решали эти комитеты. Только члены Тверского комитета наградили своего председателя Унковского золотой чашкой с выгравированным изображением помещика, склонившегося перед крестьянином, держащим поднос с традиционным хлебом и солью в знак благодарности за свободу и землю. Харьковский комитет выполнил свою задачу в христианской манере – всё было завершено молитвами и прошениями от имени своего монарха. За молитвами последовал праздничный вечер ужин и танцы для местного дворянства.
Согласно первоначальному плану, встреча должна была состояться между представителями дворянства и правительства. Для дворянства это был неловкий момент, и почти вплоть до кануна Революции они придирчиво отшатнулись от сотрудничества с бюрократией. Это, безусловно, касалось отношения с представителями центрального правительства в провинции, где любое самоуважающее и разумное дворянство, за исключением необходимости, воздерживалось от взаимодействия с губернаторами провинций, хотя, по выражению одного из членов Сената (Юрия Соловьева), «землевладельцы ожидают увидеть в губернаторах достойных людей, богатых и доброжелательных, готовых исполнить желания дворянства, особенно тех из них, кто имеет влияние». Но это также было в некоторой степени верно и в отношениях с высоко сидящими в столице функционерами, которых они, как правило, считали выскочками. Однако любое пренебрежение здесь было неуместно, так как большинство из этих функционеров сами были частью дворянства или аристократии. Во всяком случае, центральный комитет, занимавшийся разработкой проектов освобождения крестьян, а точнее, редакционные комиссии, которые подготовили работу комитета, состоящего из грозного контингента состоятельных землевладельцев, некоторые из которых (князь Паскевич и граф Шувалов) были заклятыми противниками земельной реформы. Другие (Самарин и князь Черкасский) выступали за реформу, но едва ли могут рассматриваться в качестве агентов бюрократии. Председатель, генерал Ростовцев, правда был простолюдином с большим здравым смыслом, лояльностью и с отсутствием такта или культуры, но он умер в начале 1860 года, когда его сменил министр юстиции, граф. Панин, для которого реакция была не просто политикой, но душевным состоянием, поведением, как воплощение власти кнута. Он признался по известному случаю, что «как крупный землевладелец я считаю, что вопрос освобождения крестьян это частное, семейное дело землевладельцев».
Русская бюрократия, творение Петра I, преобразовалась в соответствии с более современными требованиями Александра I и расширена в огромных пропорциях Николаем I, и была пропастью, известной как béte noire4 и посмешище русской литературы и политической мысли, её члены жили в автономном, раздутом собственном мире, и они покорно зависели от власти; неизбежно, они были вне контакта с крестьянами не менее, чем с либеральной частью образованного меньшинства, Система, как и всё, имела тенденцию воспроизводить бюрократию, создавая единообразный тип и отбивая охоту всех форм оригинальности и экспериментальности. Губернаторы провинций и администрация центрального аппарата правительства были стабильными, безопасными, а порой и недобросовестными людьми, которые были одержимы удовлетворением самых низменных страстей и желаний. Сенатор Дмитрий Хрущёв, чья позиция была упомянута в документах, касающиеся земельной реформы, считал, что в конце пятидесятых годов «24 из 45 губернаторов должны были быть уволены: из них 12 был известные „жулики“, ещё 12 обладали сомнительной честностью и полной неумелостью; из оставшихся 21, 10 можно было бы и потерпеть, 9 были довольно хорошими людьми, и только 2 можно считать образцовым. Такие выдающиеся люди, как князь Михаил Воронцов, губернатор Новороссии, были почти аномалия. У министров, как правило, не было мозгов и когда, в исключительных случаях, они превосходили традиционные стандарты, министерская разведка устраивала им серьезные неприятности». С другой стороны, государственные должности старших и средних чинов часто занимали люди с необычайными способностями и энергией, и по крайней мере один член крестьянской комиссии, Николай Милютин, помощник министра внутренних дел, принадлежал к этому слою.
Милютин был выдающейся фигурой в российской истории, потому что он представлял, во всяком случае, в своей публичной деятельности, тип беспристрастного администратора, сочетающий в себе огромные знания, уступчивость, бюрократическое мастерство, достоинство и искреннюю убежденность. В отличие от Ростовцева, который добросовестно исполнял свой долг в подготовке реформы и следовал любым другим приказам Императора, Милютин делал это из чувства долга и доверия к делу. Александр и слушал его, и не доверял ему; люди, близкие к царю, считали его «крипто-красным» или якобинцем, и дворяне открыто обвиняли его в «коммунизме». Позже он стал любимцем либералов. На самом деле, похоже, только одно из этих обвинений остается в силе. Милютин был что-то вроде монархического якобинца. Он верил в необходимость «поднять угнетенную массу народа и поставить их на ноги», но он полагался на неограниченную власть царского государства, способного выполнить задачу беспрепятственно, среди прочего, в соответствии с требованиями дворянства. Как сказал марксистский историк Покровский, «надеждой Милютина была замена государственного рабства феодальной „зависимостью“. Он мечтал о бесклассовой государственной власти, бесстрастной и неумолимой, как сама судьба». Ему не нравилось дворянство и за свою долгую бюрократическую карьеру в экономическом департаменте министерства внутренних дел, он ознакомился в полной мере с тем, что он назвал «помещичьими безобразиями», хотя он был достаточно реалистичен, чтобы увидеть, что они неизбежны. Неудивительно также, что дворянство в свою очередь ненавидело его.
Милютин был не один в своем противостоянии дворянам. Ланской, его начальник в МВД, человек гораздо меньших способностей и характера, был столь же откровенен. По поводу известного меморандума Александра «Взгляд на положение крестьянского вопроса в настоящее время» он выразил опасение, что дворянство может оказаться грозным препятствием для планов правительства и изобразил провинциальные комитеты как банды тупых и невежественных деятелей, стремящихся обмануть правительство в собственных интересах. Александр с характерной для него робостью, уступил кампании против «первенца земли российской». Он был напуган не только бунтарством крестьян, но также и неожиданным стремлением к независимости среди дворянства, чьи «конституционные желания», он описал как «вульгарные подражания иностранным памфлетистам, отличающиеся полным незнанием наших родных обычаев и крайней незрелостью мысли».
Следует отметить, что ожидание неминуемой земельной реформы привело к кратковременному снижению крестьянских волнений, и в течение некоторого времени само правительство чувствовало себя вынужденным защищать интересы крестьян – не из-за каких-то мистических связей между царем и «народом», но для того, чтобы компенсировать предательские олигархические пристрастия дворянства. Ситуация представляла некоторую аналогию с известным альянсом между Короной и Палатой Общин против аристократии в Англии. Для достижения своей цели и укрепления своих позиций, губернаторы взяли на себя роль благотворителей и выступали за владение небольшими земельными участками, принадлежащими свободному, но послушному крестьянству, хотя события показали, как это обычно бывает в таких случаях, мнения благотворителя и бенефициаров в отношении сущности блага могут различаться. Впервые с тех пор, как декабристы создали брожение в высшем обществе, которое было бы немыслимо в рамках навязанного единообразия системы Николая I и которое обретало силу (с перерывами) на протяжении всего царствования Александра и его преемников, особенно в связи с землёй или деятельности правительства на местах.
На этом фоне первая встреча пресс-секретарей провинциальных комитетов и членов Правительства не предвещала ничего хорошего, тем более что комитеты представляли в основном черноземные регионы. Ходили слухи среди землевладельцев, вовлечённых в «бюрократические интриги» что и царь, и правительство поняли, что дворянство было дважды обмануто и оказалось правым в какой-то мере. Как пожаловалась одна группа землевладельцев, «мы оказались в унизительном, действительно нелепом положении». Унижения, по общему признанию, превысили все пределы, даже если принять во внимание, что многие из благородных делегатов вели себя высокомерно и бестактно, но они были вынуждены зависнуть в прихожих; им было запрещено вступать в общение между собой или встречаться в группах; они не были приглашены для обсуждения чего угодно, и их основная роль заключалась в том, чтобы докладывать местные условия.
Однако обнаружилось, что этот конфликт, с его многообещающими драматическими последствиями, превратился не более чем в бурю в стакане воды. Ланской, несмотря на на Милютина, и окружение Александра, известное в просвещенных кругах, как «аристократическая камарилья», вскоре поняли, что дворяне были не мятежными священниками, а принадлежали к их собственной нации, и были частью одного и того же порядка. «А ты действительно веришь, что мы позволим тебе закончить это дело?», один член губернского комитета (граф Бобринский), заметил Милютину, «меньше месяца пройдет, прежде чем вы вылетите в трубу и мы будем на твоем месте». События, и прежде всего, сам Акт об освобождении, доказал правоту Бобринского. Вскоре Александр торжественно подтвердил, что считает себя в первую очередь частью дворянства и что, по его собственным словам, «все, что можно сделать, чтобы защитить прибыль землевладельцев было сделано», хотя он и продолжал сопротивляться идее ограничения его абсолютной политической власти.
В результате, было много споров о средствах уменьшения площади земель, отведенных крестьянам; но, когда Панин унаследовал Ростовцеву, гармония между дворянством и правительством была восстановлена, и за ним последовали ужины с дружескими речами с обеих сторон о священных и нерушимых правах частной собственности. Даже Милютин и Кавелин предложили это дворянству: они договорились, что землевладельцы должны получить компенсацию не только за землю, на которой жили крепостные, но и за самих крепостных «в соответствии с местными текущими ценами» (Кавелин), и Кавелин писал, что «классовые различия – это феномен, общий для всего человечества с самого сотворения по наши дни. Очевидно, что неравенство классов устанавливается не по обстоятельствам, а по самой природе человека и человеческой натуры». «Прискорбно», продолжил Кавелин, что люди «придумывают либертарианские теории равенства, которые наполняют историю слезами и кровью, и безоговорочно отрицают всё неравенство, которое является основным законом человеческой натуры». И он пришел к выводу, что земельная реформа освободит российское общество «от мечтательных теорий равенства, от отвратительной зависти и ненависти к высшим слоям общества и вытекающей из них социальной революции».
Редакционные комиссии, центральный комитет и, наконец, Государственный совет, перед которым была поставлена задача сформулировать принципы и методы проведения земельной реформы, постепенно вносили изменения в пользу землевладельцев. Единственный вывод, который можно сделать из законов об освобождении в последней редакции, что всё задумывалось не для крестьян, а для землевладельцев, и, в частности, для тех, чьи поместья лежат в чернозёмном поясе или других плодородных районах, и кто составлял большинство. Так проявились все неясности и неопределенности Александра как политика. В каком-то смысле, они положили конец деградации крестьянства в России, и крестьянин стал теоретически подотчетен только закону, Его больше нельзя было ни купить, ни продать, но сам он мог покупать и продавать, и владеть собственностью, даже если ограничения права собственности были связаны с его принадлежностью к деревенской общине, которые теоретически исключали возможность распоряжения землевладением на частной основе. Он лишил хозяина власти заставить его работать, не платя ему зарплату; но в теории было признано, что он не может быть свободным, если у него нет средств к существованию. На первый взгляд все это, похоже, бросало вызов принципу рабства. Но, перестав быть «субъектом» землевладельца, он стал для всех естественным, платящим налоги, чудовищем, несущим бремя в человеческой форме, или «рабочим скотом», используя термин, под которым Нижегородский областной комитет решил определить безземельное крестьянство. Реформа не смогла решить проблему, которая должна была быть решена, как было признано в знаменитой «Тверской резолюции» 1862 года, а до этого сам Милютина был один из главных архитекторов освобождения крестьян: «Я убеждён», – писал он, – «что в настоящее время люди не могут не только выполнить задачу, которая лежит перед ними, но даже понять её». Даже намного позже, официальная комиссия под руководством экс-министра внутренних дел Валуева признала в служебной записке 1873 года, что положение подавляющего большинства крестьян «остается после освобождения либо тем же самым, либо значительно ухудшилось», крестьянин остался в подчинении системы принудительных контрактов, которая оказалась не менее фатальным источником кабалы, чем его предыдущее состояние. Вместо обретения того, что они считали своей свободой, он просто были спровоцированы требовать её. Едва ли есть более поразительный пример доминирующей роли экономики в российской истории порабощения человека, чем эта замена экономической зависимости правовым принуждением. Это неудивительно, что марксистские историки сочли этот период столь продуктивным для своих рассуждений.
Поскольку правительство в основном заботилось об интересах землевладельцев (а где была задействована промышленность, там предпринимателей), оно не смогло, без возмещения ущерба землевладельцем, передать крестьянам землю, на которой они живут; но оно также боялось лишить крестьян их наследственных домов, садов и полей, чтобы дать им только «свободу птиц». Поэтому прибегнуло к неудачной уловке: притворяясь, что освобождает, оно объявило крепостного «временно обязанным» продолжать его барщину вплоть до трех дней в неделю или осуществлять платежи в течение двух лет, в первую очередь, вплоть до выделения ему земли, то есть его обязательства перед землевладельцем были явно определены. Платежи должны были продолжаться до тех пор, пока он не окупит стоимость отведенной земли (дома и поля), на которой он работал на протяжении поколений и которую он считал своей по праву. Другими словами, он, как и прежде, подчинялся своему землевладельцу и продолжал выполнять свои обычные «обязательства», выкупные платежи государству, которое, в свою очередь, выплатило компенсацию землевладельцу, и это продолжалось бы до середины двадцатого века, если бы не вмешались более катастрофические события и не одержали победу над плохо продуманной программой.
Крепостные, со своей стороны, несведущие в экономике, несмотря на то, что они имели традиционное отношение к освобождению, которое заставило их рассчитывать на то, что оно займет в России то же место, что и в Пруссии, в Польше, в Венгрия, и в целом в Австрии, считали, что их «обязательство» временное и уменьшающееся, в то время как не было уменьшения площади земли, предназначенной для их использования. Барщина и принудительные выплаты могли и действительно должны были быть отменены, в то время как крестьянская земля оставалась ненарушенной, все, что они знали, что земля принадлежала им, и что они принадлежали себе, хотя и знали, что они не должны принадлежать хозяину исходя из религии, что земля принадлежит Богу и право использования принадлежит тому, кто её обрабатывает. Собственность состояла не в том, с их точки зрения, чтобы владеть, а в том, чтобы работать на ней: они увидели источник своих перспектив.
Фактически, земля, выделенная крестьянам Актом об освобождении, хотя и варьировалась в размерах от района к району, оказалась в целом намного меньше, чем земля, которую они обрабатывали до реформы. Устав не только гарантировал землевладельцу неприкосновенность своего права на всю землю, но и позволил ему «порционировать» для себя от одной до двух пятых от земли, ранее занимаемой крестьянами, которые, естественно, рассматривая это как конфискацию. Кроме того, топографическая съемка была проведена таким образом, что крестьянам неизменно присваивались земли ненадлежащего качества, и так как часто они были лишены необходимого приложения (леса, луга, права на воду и т.д.), выкупные платежи превысили реальную стоимость земли на 50—75 процентов. Кроме того, доход, получаемый с отведённой земли, не покрывал того, чтобы обеспечить наложенные на крестьян финансовые обязательства, поэтому de facto5, и даже de jure6, крестьянин платил не только за землю, но и за свою личную свободу. Тщательное изучение работы провинциальных комитетов и редакционных комиссий показывает, что решение ни в коем случае не было универсальным, несоответствие между тем, что землевладельцы декларировали, и тем, что они на самом деле сделали, было реальным. Многие из них также открыто требовали и получали пенсию за потерю крестьянских услуг, а также за землю, даже хотя правительство сопротивлялось открытому обсуждению этого вопроса.
Кроме катастрофического морального эффекта, это привело к экономической катастрофе, к задолженности за выкупным платежам, которые накапливались регулярно, и которые приводили к разорению крестьянского хозяйства, обнищанию и пролетаризация сельской жизни. Даже Крестьянский банк, основанный в середине восьмидесятых годов и предназначенный для того, чтобы поддерживать тех, кто хотел занять больше земли, не смог обуздать процесс, и фактически стимулировал его. Тяготы «обязательств» были наравне с государственными налогами, и, хотя задолженности иногда списывались (например, в связи с коронациями), но при неуплате они наказывались конфискацией имущества или поркой, а также крестьянин мог быть подвержен принудительному труду. Правда, революция 1905 вынудила правительство списать долг целиком, но к тому времени у крестьян было собрано (без учета государственных крестьян государства и крестьян царя) 1.9 миллиардов рублей в выкупных взносах и процентах, что, с учётом девальвации рубля в ходе этих сорока четырех лет, превысило рыночную стоимость земли почти на три раза.
Для крестьянина несправедливость этой колоссальной операции заключалась в том, что вопреки кавелинскому прогнозу, эта схема должна была доказать, что она является плодородной почвой для классовой борьбы, но помимо того, что она морально несостоятельна на практике, операция провалилась.
Что касается этих больших достижений, надо признать, что дворянство не получило от освобождения столько пользы, сколько оно могло бы получить; даже крупномасштабное сельское хозяйство в России оставалось относительно отсталыми и большинство землевладельцев не справились, во всяком случае до конца века, и не стали вкладывать деньги в улучшение сельского хозяйства. Значительные суммы, полученные в качестве компенсации, вернулись правительству в урегулировании задолженности по ипотечным кредитам, и многое было потрачено тогда или там, или в новых доступных столицах и курортах Западной Европы, на более приятные занятия. Растущая практика лизинга земли для крестьян, возможно, преобразовала помещиков, иногда претендующих на «аграрных капиталистов» или даже на «земельных ростовщиков», но это само по себе не могло способствовать улучшению в сельском хозяйстве, которое само по себе эффективно послужило бы интересам дворянства, так соблазнительно поддерживаемых архитекторами земельной реформы.
Как в экономическом, так и в административном плане, крестьяне продолжали, как и до освобождения, жить деревенскими общинами, а не отдельными хозяйствами или полноправными гражданами. Какими бы ни были присущие им социальные и моральные ценности, коммунальная система была предметом самой горячей дискуссия в России XIX века. Правительство и большинство землевладельцев имели сомнительную заинтересованность в её сохранении, несмотря на то что славофильская секция привела известные эзотерические причины в её пользу. По словам Ростовцева, чьи взгляды на этот вопрос были в целом приняты редакционными комиссиями, сельская община и ее административный орган, «мир», должна была служить «необходимой заменой сильного авторитета землевладельцев»; и «без общины – землевладельцы никогда не получат причитающиеся платежи и услуги и правительство не будет собирать налоги». Чтобы обеспечить надлежащее осуществление таких полномочий и скорейшее выполнение всех обязательств, деревенская община была передана под новую юрисдикцию района, в котором доминируют «арбитры» (мировые посредники), взятые из местного дворянства. Эти арбитры не обладали индивидуальной властью, какая была ранее у землевладельцев, но были узаконенными представителями землевладельческого «поместья». Таким образом, их влияние оказалось более распространенным, чем частный произвол феодальных отношений, и время от времени они даже вставали смелым фронтом к более реакционным позициям и феодалам своих собратьев-землевладельцев, а также правительства. Энгельгардт, известный русский земледелец и писатель-популист, чьё эссе «Из деревни» предоставляет важный исходный материал для изучения сельской жизни в России после освобождения, свидетельствует о неустанности «арбитров». Их деятельность нейтрализована в значительной степени новыми рудиментарные формы крестьянского самоуправления, предназначенными для выполнения некоторых административных функций, ранее принадлежавшие землевладельцам,
«Арбитр – это всё:» – пишет Энгельгардт, – «открытие школы, закрытие горшечных, сбор пожертвований – все исходит от арбитра. Если арбитр примет такое решение, то крестьяне будут объявлять о своем намерении иметь в каждом округе не только школу, но и университет, если арбитр так решит, то будет принята резолюция о том, что крестьяне определенного уезда, признавая преимущество садоводства, решили внести столько-то копеек в какое-то общество в Гарлеме на культивирование гиацинтовых луковиц; если арбитр примет такое решение, то крестьяне любой деревни будут пить водку в одном доме и не пить в другом».
Как следствие, крестьяне смотрели на арбитра с ужасом, так же как у них вызывала отвращение вся экономическая и административная система, якобы новая, но, по крайней мере для них, неотличимая от старой. Обманувшись в своих надеждах, они ответили реформе новой, почти беспрецедентной волной массовых восстаний. Но, прежде чем иметь дело с этим трагическим исходом освободительной деятельности Александра II, важно сказать о самом Акте об освобождении и о его приеме городским населением.
Высочайший Манифест был провозглашён 19 февраля 1861 года (старого стиля), но «революция сверху» была провозглашена публикацией во всех газетах, провозглашением в всех церквях, вывешиванием на стенах домов столиц и провинциальных городов, и зачитываема во всех деревнях. Примечательно, что Акт избегал термина «освобождение», заменяя его эвфемизмом «улучшение условий крестьян» или «новая организация крестьянского образа жизни». Документ изобилует напоминаниями о евангельских наставлениях и обязанностях верности. Толстой в письме Герцену написал об указе, что «мужики не поймут ни слова из этого: и мы не должны верить ни одному слову».
Была проведена тщательная подготовка, чтобы превратить освобождение в великое национальное событие, и с самого начала он стал обрастать богатой мифологией. 28 февраля Погодин написал о предстоящем акте в петербургской газете «Северная пчела»: «Есть ли в истории Европы – нет, мира – событие, более чистое, возвышенное, благородное, чем это событие, равное или сравнимое с этим? Найди его, покажи мне! Русские люди! Русские люди! На колени! Слава Богу, за это возвышенное, несравненное счастье! За эту славную страницу, украшающую наша родная история!» «В назначенный день», пророчествовал Погодин, — «крестьяне выйдут в своих кафтанах, и пойдут со своими женами и детьми в воскресной одежде, чтобы поклониться Богу. Из церкви крестьяне пойдут крестным ходом к их землевладельцам, предложат им хлеб и соль, глубоко поклонятся и скажут: «Спасибо, Ваша честь, за щедрость, которую Вы подарили нам, нашим отцам и нашим праотцам; да пребудет Твоё милосердие и не оставляет нас в будущем, пока мы будем Твоими навеки слугами и работниками».
Другой писатель, консервативный журналист Ермолов, восклицал о «восторге», который реформа вызвала «у лучших русских», о «трепете благороднейших русских сердец» и о «прекрасных плодах поэтического гения», которые появятся «от вновь обретенной народной свободы».
Эти прогнозы не могут быть оценены отдельно от одновременно неуклюжих мер, принятых правительством за кулисами основного процесса. Как и в 1858 году Александр выразил Ланскому свой страх, что «когда новый устав будет введен в действие, люди осознают, что их ожидание, т.е. свобода, как они её понимают, не было выполнено: не будет ли это моментом разочарования?» Чтобы предотвратить революционный взрыв, в рамках Центрального комитета по разработке проекта устава в январе 1859 года, в присутствии царя, было принято решение отправить «доверенных лиц» в различные части страны «для руководства и сохранение общественного порядка». Им должны были быть даны «широкие полномочия действовать в определённом деле от имени Государя», Позже, накануне провозглашения, Александр приказал «отправить в каждую губернию генерал-майора или aides-de-camp7 из эскорта Его Императорского Величества», чьим долгом было бы «сотрудничать с губернаторами провинций для поддержания мира и порядка». В то же время срочная «передислокация войск» проводилась по всей стране для оказания помощи властям в деле подавление возможных крестьянских беспорядков. Эти меры не были завершены до 19 февраля, что, в числе других причин, привело к задержке публикации Акта до 5 марта. Короче говоря, правительство видело инаугурацию своего реформирования как своего рода военную операцию. Это сподвигло Герцена высказаться против «освобождения плетью опричниками „Освободителя“ и импровизированными палачами». Сильная реакция Герцена и еще более бескомпромиссное отношение, принятое его союзниками или преемниками внутри России – людьми, которым посвящена основная часть этой книги – может быть лучше оценена, если мы внимательнее рассмотрим преобладающую атмосферу в стране в это время.
Хотя многие очевидцы оставили ценные записи о днях до и после 19 февраля, они в основном являются политическими мемуарами, написанными спустя годы после событий, с неизбежными рационализациями, позитивными или негативными оценками, возникшими post factum8. Но есть важный документ, который передает преобладающее настроение, и рассказывает со всей прямотой и откровенностью о том, что на самом деле произошло и как люди реагировали, документ не публиковавшийся до революции, так как был изъят и хранился в архиве Третьего отделения, и был озаглавлен «Записки современника о 1867 г». Автор, Эраст Перцов, был процветающим землевладельцем и виноторговцем, сплетником и острословом с любопытным нравом, некоторым литературным мастерством и значительным даром наблюдения. Похоже, у него были широкие связи в среде правительства и чиновников, представителей дворянства, генералов, владельцев заводов и торговцев. Более того, у него была привычка смешиваться с толпой, чтобы погрузиться в самую середину людских настроений. Он выражал довольно сильное неодобрение политических взглядов Герцена, определённую привязанность к царствующему монарху, несмотря на некоторые злобные замечания о «пустоте головы» Александра и его чрезмерной увлеченностью охотой и «разводом» (отсыл, возможно, к одному из поздних увлечений Александра княгиней Екатериной Долгорукой, что привело его к окончательному отчуждению от императрицы Марии Александровны, жесткой и фанатичной женщине, чья чрезмерная религиозная набожность была либо последствия, либо способствующей причиной того, что её муж заводил любовниц). Но Перцов пишет массу лестного лизоблюдства о царе, в котором «аристократы, купцы, чиновники и солдаты соперничают друг с другом». Он, величайший «скандалист», считает генералов ответственными за осуществление крестьянских реформ и за защиту «величественной персоны самого императора». «Эти храбрые солдаты», говорит Перцов в одном. из своих более мягких памфлетов, «носят военную форму, но никогда не нюхали пороха и свежий воздух морали раздражает их ноздри. Они видели всю свою службу сквозь чернильницы на своих столах, участвуя в военных кампаниях против здравого смысла, просвещения и русской орфографии».
Перцов рассказывает о том, как в канун 19 февраля члены правительства «почувствовали холодную дрожь между лопатками и ещё до восхода солнца приняли поспешные, скрытые меры, чтобы встретить ожидаемое крестьянское восстание. Кроме виртуальной мобилизации армии и полиции, мастерские получили специальные заказы на прутья для порки, которые были срочно отправлены в беспрецедентном количестве в различные части столицы и ее окрестностей. Владельцам фабрик в Санкт-Петербурге полиция дала специальную инструкцию, чтобы увеличить рабочее время так, чтобы рабочие были слишком утомлены для обдумывания любых опасных действий. Некоторые уважаемые источники рассказывают, как в ту ночь в Зимнем Дворце слонялась бледная, испуганная, беспокойная фигура Императора. Также рассказывали, как сразу после прокламации высшие чиновники приказали всем купцам поблагодарить Александра за новоиспеченную свободу и то, как владельцы фабрик, с помощью полиции, арестовывали рабочих, если они не выражали свои чувства лояльности к царю».
Загадочная «она» стала общепринятым синонимом «свободы» среди обычных людей.
Генералы и адъютанты, ответственные за контроль осуществления устава, осуществляли свою деятельность с помощью огромных сундуков, наполненные копиями Акта и огнестрельного оружия для личного пользования «по своему усмотрению и с целью морального убеждения и стимулирования ментального соответствия». Трусость бюрократов видела зарождающееся восстание в каждой бедной крестьянской девушке, стоящей в одиночестве в степи.
В главном Перцов не мог проявить ничего, кроме апатии среди людей в столице. Их ответы были уклончивыми: «Я неграмотный, я не читал эту штуку, но я слышал вчера, что для домашних крепостных (дворовых) будет свобода через два года, но для крестьян не будет никакой на долгое время». Или: «Я ходил на литургию, что-то вроде Указа был зачитано, но я мало что слышал: они сказали, что мы должны все ещё ждать „ее“, а пока как есть». Или: «Конечно, я начал читать, но в толк ничего не взял; это все написано для господ, а не для нас». «Не знаю, правду ли люди говорят, но кажется, что нет никакой свободы» «Это все, что я мог услышать 5 марта из запечатанных губ народа», – заключает Перцов.
Один землевладелец объявил: «Гора породила мышь»; в то время как высокопоставленный чиновник, будучи информированным о народном молчании, воскликнул: «Черт возьми! Эти скифы – все еще живы, или они мертвы исторически?»
Тем временем Император, «в счастливом настроении после его паники позапрошлой ночью», показывался своему народу и ездил целыми днями в тройке по Невскому со всей семьей, в сопровождении сильной военной охраны. Люди останавливались, снимали шапки, крестились и шли дальше молча. Полиция продолжала вызывать дворников для новых инструкций о том, как они должны вести себя, когда Его Величество проходил перед домами, находящимися в их ведении: они должны были выйти на улицу и кричать «Ура!» Кроме того, им было приказано“ подстрекать других к выражениям. благодарного чувства. Но Перцов замечает, что „с тех пор как народ уже давно искоренил привычку публичного самовыражения, планы полиции полностью провалились. Только самые лучшие из лучших и напуганные носильщики кричали «ура!»
Петербургские газеты и другие официальные источники содержат рассказы о знаменитом событии, когда крестьянские рабочие большого металлургического завода в Петербургском районе массово вышли на спонтанное представление царю хлеба и соли («на золотом подносе!») в знак благодарности за свободу. Перцов был очевидцем того, что на самом деле произошло, и его версия подтверждается другими независимыми доказательствами.
Любой, кто знаком с политическими условиями девятнадцатого века России, должен знать, что никакого спонтанного массового проявления любого рода невозможно было представить себе при наличии царя: если бы это произошло, это привело бы к массовым арестам и избиениям. Фактически, инициатива пришла от самого царя, и были проведены подготовительные работы генерал-губернатором Санкт-Петербурга Игнатьевым и директором фабрики (Василий Полетика, фигура достаточно известная среди русских промышленников XIX века), который решил устроить демонстрацию и пригласил других промышленников присоединиться к нему, написав обращение, которое один рабочий должен был прочитать царю и которое должны были подписать все рабочие. Большинство из них были, конечно, неграмотные и при подписании документа умоляли своего хозяина не обманывать их, потому что они считали, что это какая-то ловушка, втягивающая их в неприятности. («Батюшка, не подведи нас под что-нибудь худое, не погуби!»). Чтобы успокоить их страхи, Полетика направил демонстрантов в Невский монастырь, где они нашли «случайное собрание священнослужителей» в праздничных одеяниях. Кто-то слышал, как в толпе говорили: «Если бы только сегодня они бы перестали бить мужиков! В конце концов, они пришли сюда, чтобы отблагодарить Государя». Когда появился царь, Перцов услышал крики «ура!», а хлеб и соль на золотом подносе был должным образом преподнесен, на что Александр ответил: «Спасибо, что не забыли меня», а потом добавил известную фразу: «В радость или не в радость вам вы были освобождены: это не мой поступок, но дворян, ваших хозяев. Молитесь Богу, чтобы все закончилось счастливо!» Когда в толпе Перцов спросил нескольких демонстрантов, почему они пришли, услышал в ответ: «Если хозяева приказывают, как ты можешь не пойти?»
За примером Полетики последовали другие. «Преувеличения», – продолжает Перцов, – «имеют заразное качество в России, где они распространяются от человека к человеку со скоростью молнии, увеличиваясь в процессе как в отношении объема деградации человеческого достоинства и числа тех, кто разлагается». Другим удалось собрать не только мужиков, но и крестьянских женщин и детей из различных деревень. Мальчики несли хлеб и соль, а девочки дарили цветы императрице. Перцов подслушал чьё-то замечание в известном петербургском салоне, «что было почти невозможно без смеха смотреть на этих мужикообразных белых негритянок, которые ехали впервые в жизни по Невскому проспекту в нанятых экипажах, торжественно держа перед собой изысканные диковинные цветы, названия которых они даже никогда не слышали». Перцов говорит, что в конце концов все это приобрело такой явно меркантильный и фарсовый характер что Александр, к его чести, положил конец суматохе. И когда редакторы газет спроектировали серию банкетов в честь освобождения, царь отказался от участия, хотя Перцов предполагает, что это было связано с чрезмерно затяжным и изнурительным характером этих мероприятий, которые «отвлекали его от охоты и разводов». Чтобы компенсировать их разочарованное желание выразить свое «холопство и ноголизание», патриотические редакторы перешли к следующему этапу царепоклонения, с новыми силами и усердием в их статьях, которые Александр, как известно, почти никогда не читал.
Свидетельства показывают, что ситуация в Москве не отличалась от столичной, хотя Погодин писал в своей манере в «Санкт-Петербургских новостях» о «неслыханном восторге среди жителей Москвы на церемонии провозглашения манифеста». Генерал-губернатор Москвы Тучков дал более трезвый отчёт в официальной телеграмме императору, которая содержала решающую фразу: «Приняв необходимые меры, мир и порядок в городе не был нарушен». А Ланской сообщил Александру следующее: «ситуация поразила всех своим зловещим значением. Все ожидали, что в винные магазины будут осаждаться от радости. Торговцы заказали двойные поставки вина, но, однако, не только не было увеличения пьянства, но потребление напитка на самом деле уменьшилось, несмотря на то что манифест был опубликован в последний день перед масленицей».
3
Я аристократка и это моя профессия (фр).
4
злой гений и предмет ненависти и отвращения (фр.)
5
фактически (лат.)
6
юридически (лат.)
7
адъютант (фр.)
8
после факта события (лат.)